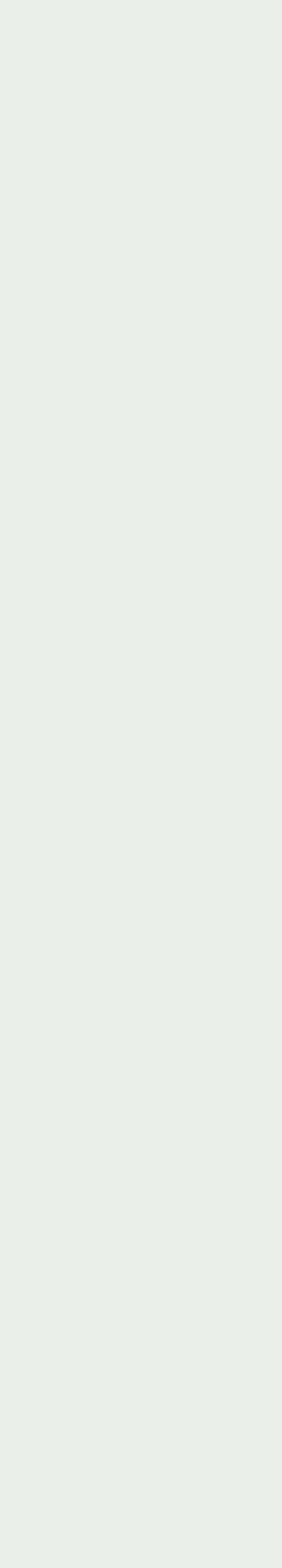


Обзор альбомов
|
||||||
Сальваторе Адамо - общественный деятель
|
Сальваторе Адамо в интернете
|
|||||
...И многое другое...
|
Новости
|
Ссылки
|
О сайте, его авторах и друзьях
|
К СПИСКАМ ПЕСЕН
ПО АЛФАВИТУ
Нью-Йорк - город, несомненно, разбросанный и весьма, но устроен практично; рискуя задеть, пусть и посмертно, творивших историю его героев за живое, предпочёл он бульвары и улицы свои нумеровать, а не освящать, за редким исключением, именами славных своих сыновей.
Все улицы ведут с запада на восток и наоборот, с односторонним движением и сменой курса на каждой соседней; авеню ориентированы перпендикулярно им, с юга на север; всё элементарно просто. Вот потому-то, в нём не только сложно затеряться, но и создаётся приятное впечатление, будто всё при том способствует пешим прогулкам; время за тем летит незаметно, а столько здесь можно увидеть.
Следующий за мифическим Рождеством день, 26 декабря, программой пребывания дозволено посвятить личным планам, воспользоваться чем я и не преминул. И вот я снова на ставшей истинным центром нового моего миросозерцания Пятой авеню. То, чего хотел, отыскал на правой стороне 82-ой улицы. Искусство - общение богов, искусство сближает с Богом. В том убеждаюсь я при виде колонн Метрополитен музея, но в большей степени - осторожно ступая по ведущей в святилище лестнице. Я смущён, будто семинарист на пути в храм, в котором предстоит ему рукоположение.
Отправляюсь на поиски шедевров почитаемых мною живописцев, как за божественной благодатью.
И, шло бы оно прахом, уединение моё, проявлю-ка эгоизм и хвачу-ка удовольствия для себя любимого, не взирая ни на душевное состояние, ни на возможное сожаление.
Пересекаю вестибюль и покупаю билет в окошке сбоку от входа на центральную лестницу. План музея подсказывает, что выбранные мною залы европейской живописи находятся во втором этаже, на западной стороне. Из учтивости к принимающей меня державе наношу визит некоторым из её современных мастеров, в первом этаже. Послонявшись у смутных горизонтов Ротко, разыскав первые работы из шестидесятых Роя Лихтенштейна, исполнив данное себе обещание ещё раз попытаться осмыслить смазанные цвета Дэвида Хокни, ухожу этажом выше, по лестнице ведущий в рай.
Фланирую мимо удивительной современности древнего Египта, пробегаю сквозь средневековье, вильнув лишь в период итальянского Возрождения. С час уж минуло наверняка, пока не наткнулся я, нос в нос, на юного эфеба, в бронзе литого жаром гения Родена. Это на пересечении главной галереи, по которой шёл я, и боковой, под прямым углом от неё уходившей, заставленной шутовскими скульптурками. Обхожу импозантного мальчишку и попадаю в зал, фисташковые стены коего предоставлены Мане. В смежной с ней, по правую руку, комнате глазам моим предстаёт первое, воистину ослепляющее зрелище - божественный Матисс в соседстве с потрясающей чистотой линий Модильяни. На противоположной стене висят Картёжники Сезанна, рядом Пшеничное поле с кипарисом Ван Гога. Такое обилие красоты и на столь малом пространстве заставляет шалить меня, как ягнёнка, я в шаге от рыданий из-за душившего меня счастья. Новый порыв экстаза, теперь перед Мечтой и Завтраком слепого Пикассо. Каждая из выставленных картин стоит того, чтобы внимание уделялось лишь ей одной; весьма подошла бы возможность каждый день являться сюда и часы напролёт любоваться одной из них, чего они и заслуживают.
А тут и Моне.
Клод Моне, французский импрессионист, гласит небольшая табличка. Череда картин: Четыре дерева, Парламент, Утро над Сеной, Руанский собор, потом оборачиваюсь и глазу моему во всём великолепии своего размера предстают изумительные Кувшинки, из серии набросков к Плакучим ивам; датированы 1915-1919 годами. Water Lilies: подтверждает табличка под ней.
Вот сюрприз, так сюрприз: посреди зала скамья, несомненно, для посетителей подобных мне: с тонкой психикой, легко впадающих в обморочное состояние. Скамья свободна. Расслабляюсь на ней, перевожу дух.
Скажу вам, что год тому назад, взбунтовавшись против Франсуаз и постоянных её приставаний, съездил я в Париж, с тем лишь, чтобы взглянуть на знаменитые лилии из не менее известной Оранжереи, но на месте узнали мы, что те недоступны - музей был закрыт на ремонт.
Знак свыше, не иначе; мадмуазель Легэ не из тех женщин, кому близки мои мысли и чаяния.
Едва справился я с острым желанием погрузиться телом и душой в омуты пруда Живерни[30], в красоту их, сотворённую из смеси тончайшего из оттенков голубизны, ловко отделенного от густоты сирени, сочной зелени только-только распустившейся листвы и нескольких пятен алого кармина, как мне, прямо в ухо, нежный женский голос произнёс: "Не могу ли и я с тобой туда нырнуть?"
Я обернулся и нос к носу столкнулся с Шадиёй. В руке держала она светлый парик и жуткие чёрные очки. Тут уж я решил, что важные свои послания в Эн стану отныне отправлять лишь почтой.
И вот снова он, тот самый момент; вы только что, несколькими часами чтения ранее встретили меня на шестнадцатом этаже некого здания. В первом этаже его художественная галерея, Голубая виолончель, и я, директор, с радостью её вам представлю.
Припомните-ка, вы же меня в полном смятении нашли. Так вот, до самого ли конца идти мне в своём намерении? Нужен мне дельный совет, хорошо бы ваш. Вы всё ещё не видите, докуда мог бы дойти я при том? Чтобы высказаться на этот счёт, вам нужно бы, конечно, знать наверняка, на какой же это земле проросло оно, что за дожди, в какие бури и под каким солнцем вызревало оно, пока не захватило разум мой, целиком.
Я должен кое-что вам прояснить. Теперь, когда вы лучше знаете меня, могу вам изложить намерение это своё. И поймёте вы, отчего никак не отважусь я на поступок, сознавая возможные катастрофические его последствия, что могут сказаться на будущем нашей многообещающей галереи, куда вложили мы всё то немногое, чем располагали. Поясню вам, кто эти мы.
В первую очередь, Шадия. К чему ставить на кон уважение той, кто разделяет со мной жизнь мою и мои чаяния, уважение пленительной Кабилы моей? Мог ли предать я ту, что была со мной столь мила, ту что, оставаясь в плену тайн и обычаев родины своей, деликатно не принуждала следовать им меня?
Часами могла она, сидя перед зеркалом, плести в косички иссиня черные свои волосы за тем лишь, чтобы понравиться принцу своему, званием сим одной только безоблачной её любовью ему жалованному.
Помогая мне в созидании общей нашей страсти, она инвестировала в искусство и тело, и душу свои.
Я уже говорил вам, там, в самолёте на Нью-Йорк, что период удачи миновал меня. Так нет же, он всё ещё длится.
Не злоупотребляю ли я им? Не предстоит ли и мне остаться ни солоно хлебавшим, как тому игроку, что уходит из казино, сделав лишним один последний ход, хотя до того, до хода этого, побил он все рекорды по выигрышу. Я вам пока ещё не говорил, что Шарли (Пьеретту послушать, так она, представьте себе, злая и чёрствая), так вот эта Шарли, которую вовсе я и не забыл, а вынужденно отдалил лишь от неё израненное своё сердце, непредсказуемая эта фантазёрка одарила меня неожиданным подарком. Он-то, подарок этот, и позволил мне хлопнуть дверью конторы Легэ и перемахнуть в новую, настоящую жизнь.
Вы же припоминаете первый диск, записанный музыкантшей моей, который я, напыщенно выражаясь, и спонсировал…
Моя "артисточка" пожелала подписать со мной контракт, в надлежащей форме, по которому не только доставалось мне несколько процентов с продаж, но запретила она ёще и повторную запись произведения на целых десять лет вперёд.
Честное слово, я забыл про эти договоренности и, когда слышал Шарли по радио, ни разу не пришло мне в голову, что она чем-то мне обязана. Я гордился ею и, одновременно, как вы догадываетесь, грустил о ней.
Из щепетильности ли, по совести ли или же по широте души своей, но вспомнила о том певица моя, когда подписывала новый уже контракт, в Голландии. Включив в него I want to be free, в новой, несравненно лучшей, и в оркестровом и в техническом отношении, аранжировке, нежели оригинал, Шарли в письменной форме потребовала, чтобы новый её производитель признал меня в качестве "over ride", иначе говоря, возобновил бы мои права. Она что же, посчитала меня способным воспротивиться новому выходу песни? Не уж то она меня так плохо знала?
Как бы там ни было, но всё это стало полной неожиданностью и созидателю фортуны, о которой я уж и вовсе позабыл.
Представьте себе моё удивление при получении первого чека в гульденах. Невеликое, но золотое дно. Должен ли я был его сохранить?
Столкнувшись с невозможностью обсудить это с главной заинтересованной стороной, отныне и навеки остававшейся со своими мало понятными простым смертным мыслями наедине, я убедил себя, что смогу найти им хорошее применение. Я ни у кого и ничего не крал: мать её получала то, что причиталось дочери. И, потом, это же из-за дурацкого того диска, который Шарли мне оставила. Он затерялся в памяти моей уже в пору моих похоронных дел, задолго до иностранного Легиона.
Всё было по справедливости или же, на худой конец, красивым исходом, ясным и нравоучительным, на пути из нищеты, куда ввергло меня моё мало похожее на жизнь одиночество.
На деле же, я так и не узнаю, кого ж это я любил: авантюристку ли, бедолагу, неудачницу несчастную, растяпу или звезду, в полном её блеске. Одно понял я наверняка, поздно правда: умела она держать слово.
Спасибо, Шарли! Всё классно! Особенно то, как деликатно предоставила ты мне время попрощаться с любовью, которой так бы я и не узнал, приди тебе в голову её со мной разделить. Если только страдание, которым ты меня при том одарила, и есть проявление твоей любви. Тогда спасибо тебе за то, что заставила меня страдать, а значит и жить. Не знаю, чем тебе и подтвердить бесконечную признательность мою; разве что, приду вот к тебе и чмокну в щёчку несколько раз. Видишь, снова я о тебе думаю; как ни крути, а вся моя нежность с тобой. До скорого, надеюсь; бегу слушать сюиту № 1 соль-мажор Баха, очень мне её не достаёт.
А союзницу свою, Пьеретту, вернувшую мне уверенность в себя, предам ли я? "Дело" она продала, хотя подозреваю, что кое-что всё же приберегла (так, мелочь, копейки, но эти инвестиции устоят при любой моде и против любых финансовых потрясений, так что не стоит таким пренебрегать). Как великодушная, но в этот раз вовсе не заинтересованная "посредница" в стряпне счастья для двух, пусть с её слов и созданных друг для друга существ, пожелала она укрыть нас под своим крылом и даже соучаствовала в воодушевлении нашем.
Отправив Шадию за мной в Нью-Йорк, подселив славную сию представительницу берберского племени в квартиру мою в Ситэ, а вместе с ней и присущие её природе нежность и страсть, убедившись что херувимчики никуда отсюда в ближайшее время не сбегут, мадам Дюпре, в кои то веки, смирилась с тем, что деревья бывают и голубыми, и фиолетовыми, и красными… любыми, лишь бы в том был толк. Даже некоторую сумму нам пожаловала; пополненной из кубышки Шадии, хватило нам её, чтобы открыть свою художественную галерею… Скромную.
Пьеретта настоятельно советовала нам убраться из здешних мест. Монс и Шарльруа не подходили, они казались ей излишне местечковыми. Навела справки у проверенных своих клиентов, весьма подивившихся разговорам о живописи. Совет был один и тот же - если что-либо и предпринимать, то только в Брюсселе; тот становился столицей Европы.
Не познай я головокружительного перемещения в Нью-Йорк, этого перенесения в другую страну, как из деревни какой-то в столицу, я бы испугался. А так я согласился, с одним условием: осуществления одной старой моей мечты. Хотелось мне экспозицию в Ситэ организовать; прощальный, так сказать, подарок мой. Я и теперь слышу то, что и как ответила мне Пьеретта:
- Послушай, малыш, я что-то не въезжаю. Что ты собираешься в Ситэ выставлять? Показывать нечего, да и они, как бы, без лоска этого обойдутся.
- А мы ничего и не станем выставлять, картины они принесут.
- Кто это они?
- Жители Ситэ.
- Ну и ну, парень, ты бредишь… ты вообще себе представляешь…
- Отличная мысль - перебивает Шадия, - красивая и смелая.
Пьеретта смотрит ей глаза в глаза.
- Ты только посмотри… теперь они оба против меня. А что мы с этого поимеем?
- Ничего, - отвечаю, - а вот обойдётся нам это в несколько тысяч франков, только их нельзя сравнить с тем удовольствие, которое мы им подарим.
- Послушай, - это Пьеретта мне говорит, - ты в Брюсселе-то, надеюсь, не станешь из себя Дон Кихота корчить, а не то: мухи отдельно, котлеты отдельно.
- Мухи… котлеты… не смешно, - отвечаю ей, с улыбкой.
- Я серьёзно, голубчик мой. Нечего меценатов из себя корчить, или как там называют тех, кто содержат артистов, у которых в кармане ни гроша? Что, я не права?
- Верно, Пьеретта, знаю, что мы без средств, но уверяю, такое не повторится. И вот, ещё что, прессу уговорите; заполучим на эту затею громкий отклик, и это уже настоящий трамплин.
- А вот в этом есть резон, мальчик мой…
- Не забывайте, что помимо любви к искусству, за мной числится ещё и торговля нижним бельём; я же как бы бухгалтер, по образованию-то.
Тендер в мэрии мы выиграли, конечно же, не без помощи Пьеретты.
В середине марта были напечатаны афишки о "семейной", в некотором смысле, экспозиции в Ситэ. Мы просили всех, кому это было интересно, мужчин, женщин, детей, приносить свои произведения до 15 мая в ратушу. Вернисаж 1-го июня 1989 года. Нам хотелось, чтобы всё случилось до начала каникул, потому как и из нищеты Ситэ, ценой огромных жертв, чаще тягостными и долгими переездами в совершенно раздолбанных машинах, но уезжали иммигранты на побывку в родные места, повидать близких.
Нежданная опека в лице помощника бургомистра придала проекту официальный статус и сыграла на чувствах самих кандидатов на звание художников. Стены домов Эн-Сент-Мартина были оклеены нашими афишками. И нам, не спровоцировав нечто-то вроде революции, невмочь было втолковать окрестным жителям, что в экспозицию допущены лишь жильцы квартала каштанов. Вынуждены были согласиться мы принимать любую картину, если автор её сдавал с нею вместе анкету, в которую заносил имя своё, адрес, возраст и род занятий. В результате картины большей частью сгруппировались вокруг того или другого из истинных, ставших откровением шедевров.
Меж тем, Пьеретта приметила в Брюсселе на бульваре Жака вместительный, насквозь продуваемый ветрами ангар, по старой вывеске на котором, в виде раздолбанной колымаги с названием Old Ladies, можно было предположить, что ранее в нем укрывался цех автосборки. Состояние "никому ненужности", в котором тот гноили ни первый год, подтверждалось и смехотворной платой, спрошенной с нас за его аренду.
То было славное местечко: высоченные стены на площади в пару сотен квадратных метров, опоясанные антресолью с ведущей к ней симметричной лестницей; выглядело всё это почти что величественно.
Мы довольствовались тем, что стены выбелили, а выступы покрыли синевой электры. Художественная законченность помещения виделась нами достаточно убедительной. Подходил к концу февраль 1989-го. На свет явилась наша галерея, мы окрестили её Голубой виолончелью, в залог признательности, вам известно кому, даже не смотря на некоторую по этому поводу сдержанность Пьеретты.
На скорую руку подремонтированный оригинал, чьё имя носило и заведение, восседал в витрине. Ведь это же он счастье нам принес!
Отныне помыслы наши были устремлены на то, чтобы наполнить весь его объём красотой, вдохнуть в него душу и получить от него отдачу; к этому взывала Пьеретта, и я пообещал ей забыть о меценатстве.
В былые времена вечерних прогулок по Эн-Сент-Мартин пообвыкся я с громадою размеров типажей современного искусства, безымянностью художников и скульпторов, недоступных и неприкасаемых, пусть и от мира сего. Мы же остановились на авторах не столь заметных, деяния которых казались нам интересными и обречёнными на признание ценителями в будущем. Среди них, фотограф один, итальянец; приковал он к себе моё внимание и пленил мою чувственность. Он представлял миру предметы обихода такие, как ложка, к примеру, или же тарелка с супом, кофейник, ломоть хлеба, яйцо в скорлупе, какой-либо плод, пепельницу, карандаш, зубную щётку, самое в общем-то обычное, но в чёрно-белом изображении. И я не знаю, какой такой хитростью, каким же приёмом подсветки он пользовался, может специальным каким-то способом чернения, только контуры предметов казались притом подрисованными чёрным карандашом, что придавало их формам неожиданной реальности. Обыденные эти предметы, увеличенные до размеров два на два метра, обретали некую загадочную ауру и смотрелись, как бы, впервые.
Координаты фотографа этого я отыскал: звали того Анжело Боски, обитал он в Варезе, в Ломбардии. Предложил ему взять на месяц нашу галерею в полное своё распоряжение и разделить в конце вырученное с продаж, не давая друг другу никаких гарантий. Мы взяли на себя рекламу, транспортные расходы и кров. Обычная рутина для видавших виды устроителей экспозиций нам, новичкам, казалась за гранью риска.
Доселе в Бельгии он не выставлялся и был на седьмом небе от перспективы распахнуть для себя страну Магритта и Дельво[31]. Интересовало его лишь одно - достаточно ли у нас на фасаде места для фото в четыре на три метра. Мне хотелось всё обмозговать, он настаивал: во что бы то ни стало нужно задать ритм, заинтриговать всякого проходившего мимо, для того и прибегал он к заранее проверенному приёму: выставлял фото некого незнакомца, но из местных, и одну лишь голову, но размером в четыре на три метра. Для того и собирался он явиться за несколько дней до открытия, чтобы отыскать подходящую физиономию, снимок сделать, портрет вылепить и вывесить. Я ему обещал, что сделаю всё согласно его пожеланиям, на том и порешили.
С пятьдесят картин в светлых деревянных рамах, так же как и пара сотен каталогов были доставлены в Брюссель грузовичком.
Сам фотограф приземлился в Завентеме пятого апреля, встречал я его вместе с Розарио. Анжело Боски знакомству с инспектором Беляссе был рад и выказал одобрение моему выбору. Всё было вроде бы как чин чинарём, мне всего-то и хотелось, чтобы фронтон наш украшала голова моего друга, но Розарио не мог взять в толк, чего от него нужно. Пришлось объяснять, что выпало ему принести мне удачу, и он таки согласился польщенный, но обеспокоенный, лишь с трогательной застенчивостью спросив:
- И что станут болтать, если кто-то меня узнает?
- Что ты лучший в мире сыщик!
В нескольких городских газетах разместили мы неброское объявление; я понимал, что проку в том на грош. Небольшие афишки запестрели и на дверях некоторых бистро.
Пятью днями позже проводил я первый в жизни вернисаж. Открытие оказалось сдержанным: с пару десятков любопытствующих, якобы интересующихся, явились к поданному, как того и требовали правила приличия, шампанскому и закускам. Вместе с нашими друзьями и друзьями Пьеретты собралось человек с пятьдесят; прочее так себе, ничего примечательного.
Одна лишь рожа инспектора Беляссе, огромная и лукавая, притягивала внимание пассажиров трамваев, всей армии автомобилистов и пешеходов, оказавшихся на бульваре генерала Жака между десятым апреля и десятым мая 1989 года, обсуждали, строили какие-то догадки, прикидывали, что, да как, и даже заключали пари.
Розарио становился министром и киноактёром, раскаявшимся мафиози, нефтяным магнатом, главным тренером по футболу, ученым, ресторатором, а то и вовсе художником, и не знаю, кем ещё. Признавали в нём даже самого Анжело Боски, и никто не принял его за сыщика.
Как бы там ни было, но люди шли, пускай хотя бы и затем, чтобы спросить, что же это за башку мы выставили. Одна дамочка даже сообщила нам, что типа этого знает: он, дескать, её сосед и, мол, в жизни своей не сотворил ничего такого, что делало бы ему столько чести. Тем самым, заполучили мы постоянно обновляемую хохму: ежедневно Розарио доставалось от нас новое обличие, побывал он и в швейцарской гвардии при Папе, а при сорванных тормозах нашего воображения докатился и до трансвестита. А люди, раз уж заходили, то непременно замечали и выставленные внутри отличные снимки домашней утвари огромных размеров, какой им не доводилось видеть её ни разу в жизни. Нельзя было не заметить, что они приятно удивлены! Да это же искусство! И так всё просто? А красиво-то как! Кто-то восходил и до вопросов о цене, а поскольку та не являлась такой уж неприступной, дней через пятнадцать на всех были прикреплены красные победные кружки - всё было продано.
Пронюхав, куда со второй недели подул ветер, я вызвал Анжело Боски; скептически восприняв итоги первого дня, он тут же после открытия выставки уехал домой. Тремя днями позже, тот же грузовик доставил нам очередные пятьдесят снимков. Следующим после десятого мая днём получил я огромное удовольствие, сообщая фотографу, что ему не предстоит приезжать и забирать непроданное; просто ничего не осталось. Он отказывался, по началу, верить своим ушам, а затем предложил мне стать эксклюзивным представителем его по всей Бельгии. Согласие своё я дал, и до сей поры в Голубой виолончели постоянно выставляются фото Анжело Боски.
Пьеретта уверяла, что никогда и не сомневалась в том, что я родился под счастливой звездой. Шадия же, та что-то говорила про мой нюх.
Розарио приписывал успех притягательной силе своего взгляда. Ему от Анжело Воски достались два снимка: кисточка для бритья в пене и пепельница с дымящимся окурком. А в награду получил он и свой портрет, размером метр на метр.
Нежданный этот успех позволил нам приобрести несколько и настоящих полотен.
Навещая Шарли у её матери, открыл я для себя студию в Лаетеме[32], собравшую в начале века под своей сенью множество талантливых бельгийских живописцев; тут тебе и импрессионисты, и кубисты, и экспрессионисты. Я даже в местный музей заглянул и приобрёл там каталог.
Пусть такие художники школы, как Констан Пермеке и Густав де Смет, мне, новичку выставочного бизнеса, были и не по карману, зато прочие, из обожаемых мной: Ван де Вустейн, Фриц Вандерберг, Альбейн ван дар Абель, Флорис Йесперс, продавались по вполне приемлемым ценам. Мы взяли с полтора десятка их полотен, но одни они выставку ту, конечно же, не оправдывали; пришлось уйти в формат выставки-продажи. После подписания всех требуемых притом обязательств, дали анонс в профильные журналы типа Искусство Бельгии, чтобы забить в его, то бишь искусства, уютном, но и без того уж донельзя переполненном пейзаже местечко. Анонс состоял из подборки хвалебных отзывов о первой экспозиции, об оригинальности и даже дерзости, с какой та была устроена; отмечалось и качество выставленных на ней фотоснимков. Владельцам работ Латемской школы Голубая виолончель предлагала доверить их ей для показа и продажи.
Недоверие, требование личных данных, чуть ли не родословной и ещё бог знает какие экзекуции - мы прошли через всё. Но позиций своих не сдали: мы не увиливали от вопросов, играли с открытыми картами. Некоторым из коллекционеров, закрывшим глаза на этот наш эксперимент, видимо, понравилось всё: работ этак с двадцать нам было доверено, и среди них, Крестьяне на отдыхе, Констана Пермеке. Одно из лучших его произведений - дуновение красоты, краски божественны - истинный шедевр. Тёртые торгаши как бы и проглядели её, потому как картина была не самого широкого круга известности, да и манера письма у автора, по мнению этих придирчивых знатоков грубовата, будто долотом долблена или же ножом вырезана. На манер резцов по дереву, украшая стены в домах зажиточных фламандских богатеев. Одна из несносных цеховых склонностей указывать, мудрёные сентенции, что всякому художнику отведён на работу плодотворную некий срок, а остаток жизни уходит на поиски и страсти-мордасти. А я вот взял да и влюбился в полотно это, маслом на холсте писаное, в размер метр шестьдесят с чем-то на метр десять, в девятнадцатом году, в Англии.
И теперь вот, млея от восторга перед шедевром Пермеке, говорю себе самому, что нет никаких веских доводов в оправдание мнения, что картины подобного уровня должны услаждать взоры одной лишь элиты общества. И я - выходец из гетто, но мне кажется, что кожей воспринимаю их. Я реагирую на них, как дитя предместья каштанов, в очередной раз досадуя от имени всех тех, кто лишён доступа к прекрасному, часто созидаемому великими мастерами в условиях такой же нищеты, как у них самих. И не во имя сопричастности к невзгодам их хочу я показать этим "отбросам общества", что произведения искусства и им предназначены, что и их глаза в равной степени с прочими имеют право гравировать на своей сетчатке ту красоту.
Сальваторе Адамо. Воспоминание о счастье - тоже счастье...
Salvatore Adamo. "Le souvenir du bonheur est encore du bonheur..."
(перевод Колягина)
СТРАНИЦА 21

Copyright © 2012
Все текстовые, графические и мультимедиа материалы, размещённые на сайте, принадлежат их авторам и демонстрируются исключительно в ознакомительных целях. Оригинальные материалы являются собственностью сайта, любое их использование (или модификация) за пределами сайта - только с разрешения администрации.
К СПИСКАМ ПЕСЕН ПО АЛФАВИТУ
























