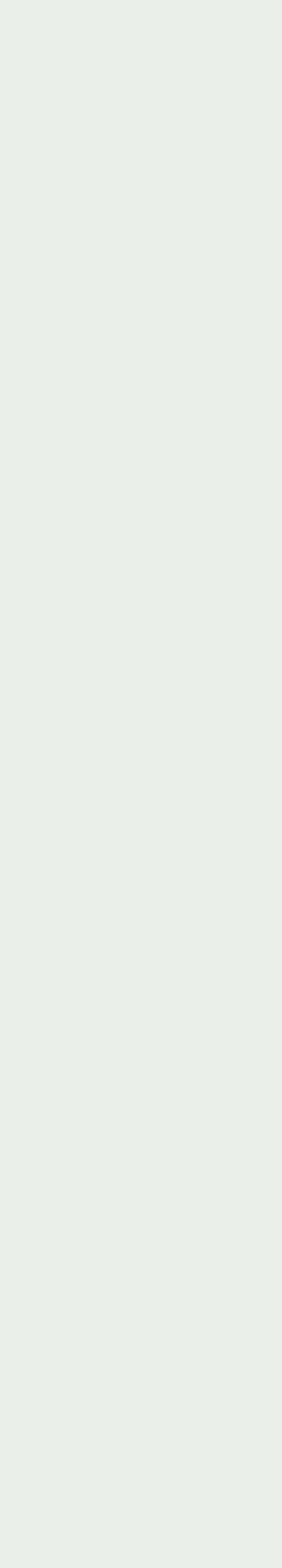



Помимо всем давно известных талантов, у Сальваторе Адамо есть еще один, хотя и редко используемый, к сожалению... Но все-таки это и понятно, потому что основной род творческой деятельности Сальваторе совсем другой...
Сальваторе Адамо - писатель, с оригинальным стилем, языком, видением мира... Найти перевод его книги на русский язык было сложно, должны признаться, но все-таки это получилось... Здесь представлен в ознакомительных целях роман Сальваторе Адамо "Le souvenir du bonheur est encore du bonheur" в замечательном переводе незнакомого, но отнюдь не ставшего от этого менее талантливым, переводчика Колягина, которому заочно выражаем огромную благодарность за то, что он дал возможность русскоязычным поклонникам певца прочесть этот роман. И, надеюсь, посетители сайта, истинные поклонники прекрасного во всех отношениях человека, любимого бельгийского певца, поэта и композитора, смогут составить о писательском таланте Адамо свое впечатление... Поверьте, дорогие знатоки творчества, все, что вы замечали в его песнях, стихах - и романтизм, и интеллект, который невозможно скрыть, и иронию, непередаваемое чувство юмора, и философское, мудрое отношение к жизни и людям, - всё это вы можете увидеть в каждой строке этого удивительного романа...
В романе воспоминания о собственной жизни перемежаются с художественным вымыслом, поэтому однозначно трудно сказать, что эта книга полностью автобиографична.... Но для понимания жизни Сальваторе Адамо эти воспоминания многое дают...
Итак, "Воспоминания о счастье - тоже счастье".... Salvatore Adamo. "Le souvenir du bonheur est encore du bonheur" ... Книга опубликована в издательстве Albin Michel 3 октября 2001 года. На русский язык перевел Колягин. Книгу в оригинале вы можете заказать и купить здесь.
Полную электронную версию на русском языке можете скачать здесь.
Сальваторе Адамо. "Воспоминание о счастье - тоже счастье..."
Salvatore Adamo. "Le souvenir du bonheur est encore du bonheur..."
(перевод Колягина)
Из душной клети бытия
Тебя, Магритт[1], окликну я.
Хоть знаю - ногти искрошит
Мне доводов твоих гранит…
Брюссель, франтоватый по случаю воскресенья, распустил по весеннему небу белых своих барашков. С макушки одной из берёз парка Камбр спорхнула какая-то птаха и замельтешила над неуёмным потоком машин и джогеров без устали нарезавших круги по бульвару, опоясывающему одноименное озеро с круглогодично нежившимися на нём дикими утками и лебедями, любителями каноэ и водных велосипедов. Просто Булонский лес с бразильским карнавалом в придачу, ни дать, ни взять, разве что, мельче всё, и в этом-то вся наша Бельгия…
Над круглой площадью, неподалеку от авеню королевы Луизы, птаха решает повернуть на север, к проспекту Ллойд Жоржа, упирающемуся в бульвар генерала Жака. Бросив взгляд в сторону нескольких отелей, выставивших на всеобщее обозрение своё фешенебельное благополучие, она продолжает полёт в сторону домов, чьи жалкие фасады укрываются за сочными и вызывающими красками, не гнушаясь ни сочностью оранжа, ни вязкой зеленью селадона, ни студеной синевой индиго, ни безнадежностью охры, полыхавшими на невесть откуда выглянувшем солнце. Всё вместе сливается в весьма пестрый, но на диву созвучный пейзаж.
Вакханалии красок вторит и разношерстность тамошних ремесел и торговли; лишь здесь и нигде более смогли усоседиться витрины набивщика чучел и филателиста, а чуть поодаль, в принадлежавший некой сатанинской секте домик вжимается мастерская по выделке змей, игуан, крокодилов и прочей всякой нечисти. Далее, два ресторанчика, один за другим: индийский Тадж Махал и мексиканский Эль Пасо; будь вы их завсегдатаями, то непременно встретили бы здесь, среди прислуги одних и тех же обладателей пейсов "по-брюссельски", сообразно времени суток и наплыву посетителей ряженых то в брахманов, то в пособников Сапаты… Ну, а не говорил ли я вам чуть раньше, что и в Брюсселе всё "как у людей"?..
В ряды того самобытного, трехэтажного жилья неожиданно втискивается поразительная для здешних мест конструкция. Не иначе как ошибка урбанизации, ставшая явной лишь по завершении строительства её последнего, шестнадцатого уровня: десятиэтажный блиндаж в виде куба, с натянутым на его маковку цилиндром, скорее напоминающим кусок камамбера. При высоте в шесть этажей, этакий и нарезать проще; берёте большой кухонный нож и дважды, посередке, режете на всю высоту под прямым углом, получаете двадцать четыре куска и пользуйте их хоть под жилые коконы, хоть под офисы, в выборе вы вольны…
Вольны, как тот воробышек, что с высоты своего полета разглядел и примерился к одному из двух окон шестнадцатого этажа, откуда открывается прекрасный вид на полупустынный, только что покинутый им оазис. На подоконнике одного из них, храбрясь, он и пристроился - там на свежий воздух был вывешен небрежно обернутый в мятую бумажку сэндвич, с филе "по-американски". Воробей беззаботно принялся клевать его прямо через обертку, не обращая никакого внимания на человека за стеклом; тот сидел спиной к дверям, и широко распахнутыми глазами смотрел в небо, изредка бросая взгляд на экран стоящего перед ним компьютера.
Заметив воробья, человек поднялся, но птаха тут же упорхнула.
- Эй! Да куда ж ты! продолжай… я не голоден.
Поздно, вставать не нужно было…
Во всех отношениях приятный молодой человек, без колебаний приносящий в жертву свой завтрак, тем самым затерявшегося, изголодавшего и продрогшего воробышка спасая, аз есмь.
Очень хорошо, что знакомимся мы с вами в столь подходящий момент проявления мною искренней, хотя, впрочем, и бесполезной щедрости. Птаху только вот бедную жалко; улетела, так и не поев. А я-то готов уж был пообщаться с ней на привычном для нее диалекте. Дай она мне лишь время манок схватить и трели подходящие подобрать, мне знаком язык всяких там… трясогузок, скворцов, кукушек, малиновок, обычных дроздов… и певчих… но только не американских!
Я и улетел бы с ней, так пронзительно ощущение себя во времени, когда приходилось слыть маленьким, не беспокоить взрослых… не мешать им чем-то очень важным заниматься.
Ну да, тем подарком, что невольно предстал пред вашими глазами, был я не всегда, долгое время не блистал ни умом, ни находчивостью, ни знаниями, ни статью, ни какими бы то ни было способностями, отличался лишь полным отсутствием себя самого, прозрачностью своей. Никогда не находился я там, где меня видели, что покруче хождения сквозь стены. Потому-то до последнего времени и представлял собой некое подобие хамелеона, подстраивался под предлагаемый извне декор, меняя восторженную влюбленность на летаргическое прозябание и допотопность растительного мира. Всё это в прошлом, бросил я теперь судьбе вызов, предпринял попытку переделать себя самого и шагаю по пути к успеху.
Сказать по правде, птаха эта отвлекла меня в тот самый момент, когда пребывал я на пороге весьма важного, но должен сознаться, и столь же предосудительного поступка. Возможно, самолично чуть не порушил профессиональное будущее свое, которым обязан… опять же, лишь себе самому… Вот и взвешивал я все за и против, силясь понять, следовать ли за той затей, что крутилась в моем мозгу и могла столкнуть меня назад, в небытие, откуда так долго я выкарабкивался…
Отчего сидит оно во мне и почему столь живуче непреодолимое это желание неоправданного риска?
Именно о том мне и хотелось поведать вам. Не из прихоти или тщеславия, но всего лишь по зову и тяге к ясности. Да и кто же лучше вас, дорогие мои читатели и читательницы всех мастей, свидетели стольких драм, укажет мне тот верный в похожей на шахматную игру жизни ход, что позволил бы избежать участи оказаться в ней побежденным?
Я вынашивал тайную мысль захватить вас с собой в Эн-Сент-Мартин, тихий городок при слиянии двух речушек, несущих свои воды под прикрытием довольно занятных названий, Эн[2] и Труй[3], в ту, в минувшую уже эпоху, когда их берега ещё не являли взору воскресных гуляк произведений современного искусства, по всей видимости принадлежащих кисти некого мясника, ныне выставляющего ту или иную часть женского тела - голову, грудь, бедра, ну и прочие там всякие органы - образчиками кровавого реализма…
"Э-эх, таки удрала!" - выдохнул Фернан Легэ и испустил дух.
Теперь уж и в самом деле было слишком поздно, душа его успела достичь пределов, кем-то прозванных мировым разумом, крохотной частицей которого она и являлась. С удушающей своей ролью веревка справилась сполна: сконфуженно свисавший изо рта Фернана язык и последняя, "вместо - по Брассансу - святого причастия", эрекция неопровержимо свидетельствовали о свершившемся факте повешения. На выщербленном паркетном полу валялся опрокинутый стул. Досталось и стулу; не совладав с непомерной тяжестью, тот разъехался, хотя стулом прослыл и добротным, и вес человека, пусть даже и вставшего на него, следовало бы ему выдержать. Наверное, расшаталась одна из его ножек, что и застало Фернана врасплох. С этой-то незначительной деталью видимо и связан был возглас досады, раздавшийся в тот самый момент, когда, чуть ранее Фернана, отдал богу душу стул, а значит вполне возможно, что Фернан согласен был не со всем и не вполне.
Он что, попробовать решил? Припугнуть хотел? Или все было по-настоящему? Насмеялся над врагами, прикинувшись внемлющим их требованиям уступить дорогу, но в последний миг успел пропеть: "Доволен был бы слишком ты, но той услады не получишь!"
Любитель сильных ощущений, он, должно быть, просунул голову в завиток им же самим привязанной к прочной дубовой балке веревки, как вдруг, хрясь! и душа вон; и из стула, и из Фернана. Не успел и пары слов черкнуть - ни прощения тебе, ни объяснения.
Фернан Легэ, владелец бюро ритуальных услуг, могильщик до мозга костей, на смерти наживавшийся и без малейшего сострадания над нею насмехавшийся, почил в бозе теперь и сам…
Что ж, мир сей покидают не одни лишь лучшие!
И вот я у его изголовья, при двух титулах: правой руки и будущего зятя. Всего несколько часов назад он ещё думал, что я женюсь на его дочери, но, как оказалось, в патетический тот момент руку её сжимал я в последний раз - очень скоро она остановит выбор на более подходящей, нежели я партии.
Когда обнаружившая его Зульма, домработница, отвела нас, меня и мадмуазель Легэ, на место драмы, последняя спросила сквозь рыдания, действительно ли он мертв. Не бросился я, дабы в том убедиться, грызть большой палец его ноги, хотя и рассказывал мне Фернан, что он в свое время проделывал подобные штучки.
Как бы и что бы там ни было, но он был мертв и по причине, точно, злонамеренной. Недавно какой-то оригинал прислал ему… веревку, потом вторую, затем и целый ящик плетёной конопли выслал…
Поди, узнай теперь, отчего ж это без малейшего сомнения принял Фернан ту посылку за приглашение повеситься. Наверняка веревка могла предназначаться для чего угодно, только согласитесь и ваше сознание помутилось бы, получи вы такой подарок. Готов поспорить, что и вы с выключенным светом не ложились бы спать, пока не разыскали бы обидчика, отважившегося на этакое послание в ваш адрес. Было отчего пасть духом. Вот Фернан духом и пал, и… очень сильно. Об уступке нажиму негласного приказа скрывавшегося под маской врага не могло быть и речи, даже если бы эти попрошайки и разыгрывали сцену неотвратимости спланированной экзекуции по законам сицилийской омерты. И это в Бельгии-то, в самом, можно сказать, сердце её! Пусть даже названную местность и орошают воды реки с красноречивым названием Эн, это ровным счетом ничего не значит.
Что же касается всяческих там сицилийских преданий, то направо и налево сыпавший поговорками и прибаутками Фернан не мог не знать и такую: "Кто угрозы пишет на песке, тот получает ответ на мраморе выгравированным"…
В ожидании худшего Фернан предпочел с этим худшим судьбу-то свою и разделить. Он пошел даже на то, чтобы собственную способность противления повешению взвесить; словно на безмене из своего кабинета.
И надо же было такому случиться, что какой-то там стул - вот уж кто истинный самоубийца - взял да и предал его. Ну да, жизнь вел Фернан бесшабашную, ничтожную и непредсказуемую, однако, осмелюсь все же утверждать, что он прекрасно обошелся бы и без столь тесной, почти трогательной дружбы со смертью.
На презентации кончины Фернана я, разумеется, не присутствовал, но именно так себе и представлял её, стоя у него в изголовье и сознавая, что, пусть хотя бы в мыслях, но остаюсь признательным тому, кто непременно одарил бы нас своим: "Вот черт, удрала-таки, мерзавка!"
От дорогой его маман, в чьих глазах он оставался все тем же невинным малышом, благочестиво скрыли так называемый акт сыновнего отчаяния, приписав его кончине банальный вариант несчастного случая "с проломом головы от падения при попытке замены плафонной лампочки".
- Прими его душу, Господи! - вздохнула мадам Легэ, в затянутой черным бархатом комнате одна одинёшенька со слезами на глазах…
А вот это, пожалуй, вряд ли, мадам!
Не мешало бы тебе, Фернан, при жизни быть более осмотрительным. Душа, это тебе не вставная челюсть. Да, она тоже твоя и ничья больше. Только челюсть можно вынуть, почистить и вставить назад, а вот душа, она одна и на всю жизнь, её не поменяешь. Бывают, конечно, исключения, как то, с Иисусом из Назарета, ему удалось-таки через три дня после утери снова вернуть себе все жизненные блага. Но Фернан не Христос и… что сделано, то сделано.
Но, может быть Фернан сном праведника уснул? А почему бы и нет? Верно же то, что в последние годы память у него слегка ослабела - стерлись из неё, наилучшим образом подчистив совесть, если таковая вообще у него имелась, некоторые не столь уж и блистательные перипетии прежних лет.
Так что, не смотря на скрытую угрозу тайных недругов и некоторых проблем со здоровьем, совсем впрочем, незначительных, не было у него и малейшего повода, чтобы прервать неспешный ход жизни, со стороны все еще казавшейся полной удовольствий. В общем, чертовщина какая-то!
Первым предвестником тяги к своевременному им забвению чего бы то ни было, к тому же с весьма плачевными последствиями, стал неожиданный, всего за несколько недель до свадьбы, разрыв с Люсьен, с невестой. Бросила-то его она, неблагодарная… правда, долгое время не получая от него ни весточки…
В те времена призван был бедняга Фернан под знамена и, просто-напросто, позабыл известить о том Люсьен. Но подобное со всяким приключиться могло, разве ж не так? По возвращении нашел он у своей мамаши, Жоржет Легэ, в девичестве Навэ, годовалую девчушку… собственную дочь… на которой я чуть было и не женился.
Ну да, цветочки эти быстро подрастают… и столь же быстро попадают на цветочный рынок…
Чтобы не травмировать собственное чадо, ставшее новобранцем, мамаша Жоржет, не жалея себя самою, тщательно скрывала наличие вылупившегося у него приплода. Тем временем истинная мать, то бишь Люсьен, голубоглазая брюнетка с вполне, для своих двадцати лет, сформировавшимся характером, дочь свою преспокойненько оставила, объяснив это тем, что, дескать, вынуждена следовать за собственными родителями в Квебек, где в ту пору, похоже, было чем заняться и на что надеяться - несколько лет спустя Люсьен вышла замуж за Эмэ Санрегре, служащего квебекского похоронного бюро, ныне уже владеющего собственным подобным заведением неподалеку от Монреаля. Узнав об этом, Фернан, это он сам говорил потом, возненавидел дважды предавшую его Люсьен: сбежавшую, а затем и бросившуюся в объятия, пусть и находившегося на расстоянии в шесть тысяч миль, но, всё ж таки, конкурента.
Чем же мог оправдаться Фернан в собственной причуде? Война закончилась, немцы сдались. Что же такого он больше года делал, что не сыскал свободной минуты, дабы черкнуть Люсьен хотя бы пару строк? Занят был по горло, как утверждал он сам. Шофером был… у генерала. Среди сослуживцев благородная эта миссия почему-то считалась "теплым местечком".
Дабы в случае возобновления военных действий воинов своих не лишиться, все части приведены были в постоянную боевую готовность - их постоянно, по ложной боевой тревоге, перебрасывали с места на место, во время одной из которых солдат Легэ и попал в Вейден, под Колонь. И пока генерал играл в войну, Фернан дни напролет до блеска натирал свой Jeep, отдавая этому занятию все свои помыслы, без остатка. Не было для него никаких тренировок, ни ползанья по грязи, ни карабканья на пределе сил и дыхания по подвесным лестницам. В обязанности его входило лишь поддержание морального облика высшего офицера на подобающем уровне, через подачу тому безукоризненно чистого авто.
Шел 1946-ой год… Телефон в ту пору вещью был экзотической, элитной. В минуты откровенности Фернан, положа руку на сердце, уверял нас, дочь свою и меня, будто догадывался, что кто-то рассказал-таки Люсьен, где он находится и та, дескать, все поняла и написала ему.
Не дурно, Фернан, отличная уловка… Да только не было этого, каналья, никто и ни о чем ей не сообщал. Просто инсценировка эта устраивала тебя, позволяла тебе не помнить, что родители твои из своего сердца ее вычеркнули, в особенности твоя мать, которой трудно было сносить ее манеру ставить тебя на место по всякому поводу и без оного. Она хотела тебя сделать ещё лучше, твоя Люсьен, только раньше до совершенства тебя довела твоя доблестная маман. За те несколько месяцев, что длилась ваша помолвка, между двумя женщинами шла беспощадная борьба по навязыванию противоположных, несовместимых по сути методов возведения на пьедестал общего идола, тебя, Фернан, и то была твоя Голгофа!
Но, прямо-таки с небес, в твой почтовый ящик свалилась призывающая на службу повестка и у тебя, для раздумий, появилось целых восемнадцать месяцев избавления. После трех дней неизбежного общения в Малой Крепости с военным людом, по выяснению профпригодности, тебе удалось настоять на признании твоей сноровки в управлении грузовичком прачечной семейства Легэ и ты с облегчением вздохнул, поняв, что бельгийская армия под началом союзнических сил доверяет тебе осторожно вести ее куда следует.
Между нами, Фернан, ты что же и в самом деле не мог предупредить Люсьен? Или же предпочел удалиться, по зову собственной предосторожности и неконтролируемого порыва, на какое-то время и некоторое расстояние, после того замечательного вечера, когда Люсьен предупредила тебя, что у нее период плодовитости? Вот тебе, однако, и мораль: мерзавцу - мерзавка с прицепом… Она оставила тебе плод твоего собственного легкомыслия весом в три с половиной кило.
По возвращению в Эн-Сент-Мартин ты уже был и сыном и отцом, в одном лице. Матушка твоя, не жалея на то сил, лелеяла и голубила малышку Франсуаз. У тебя не было выбора и в поиске имени её. Она была схожа с тобой как две капли воды и, чтобы заполнить пустоту твоего отсутствия, прародительница твоя вполне логично нарекла ее твоим вторым, из уморительного Фернан-Франсуа-Легэ, именем в женском, конечно же, варианте. Твоей маман, особе во всех отношениях достойной и плутоватой, хватило ума не назвать ее Фернанд, что уже в те времена вызывало улыбки. Между прочим, позже, все тот же Брассанс прицепил-таки обветшавшее прозвище к одной из рифм, неизбежно преобразованную и признанную подрастающим поколением прикольной: "Когда я думал о Фернанд[4]…"
Малышка была столь мила, столь улыбчива и спокойна, что полюбил ты ее сразу же, как только оправился от ожидавшего тебя сюрприза - как ни как, а лишний рот!
Увы, но к тому времени не было уже отчей прачечной, основанной Октавом Легэ, трудягой из трудяг, выдохшимся из-за упрямого и заносчивого нежелания оставить дело, которое должно было, в чем уверял и ты себя самого, обеспечить достаточный для получения твоей наследницей достойного образования доход.
А ведь было же и у него, у этого семейного предприятия золотое времечко. В тридцать третьем Октав Легэ выносил хитроумный план расширения этого, казалось бы, совсем незатейливого занятия. Он предложил своей клиентуре чистку самых неприятных вещей, среди которых была стирка с дезинфекцией постельных принадлежностей со смертного одра усопших. Трах-тарарах! Победа! Скромное прежде предприятие завалено работой по горло, вынуждено расшириться и стать процветающим, на нём трудилось уже с дюжину работников. "Хорошее было времечко", - говаривала, вздыхая, мадам Легэ.
Эйфория продолжалась до самой войны, что удивительно поставившей крест на делах папаши Легэ. Впрочем, осмелюсь напомнить - смерти нет дела до живых. Что и говорить, но, на войне, как на войне, потому-то приунывшие клиенты, отныне не имевшие возможности шиковать, оплачивая услуги прачечной, грязное своё бельё вынуждены были вновь стирать собственными руками.
Уже в самом раннем возрасте, каждодневно, наблюдал Фернан за тем, как во внутреннем дворике некого строения городка Л., где проживало и работало семейство Легэ, происходила выгрузка матрасов и подстилок, пропитанных выделениями разлагающихся трупов. И придавал он им значения не больше, нежели сын какого-нибудь автомеханика пятнам и запаху отработанного масла, сопутствующим занятию своего отца.
Вспомнил он об этом лишь осознав, что сам стал отцом, а листая военные сводки, вновь убеждался в вездесущности смерти. Без особого труда пришел он к выводу, что, взяв её в компаньонки, сможет отхватить кусок масла на свой кусок хлеба, сохранив при этом необходимую дистанцию между нею и собой. Одной лишь стиркой белья жертв её вечного благоденствия родительскому предприятию не обеспечить - усопшего в последнем его путешествии нужно сопровождать вплоть до последней ступени перрона.
До него покойников Эн-Сент-Мартин отвозили прихорашивать и переодевать в соседнюю деревушку. Отныне был он, был рядом, здесь. Безжалостный, но предупредительный и заискивающий, невзрачный и толстый до невозможности, рассеянный или скорее забывчивый, не помнящий именно тех вещей, которые не хотелось держать в памяти, таков он и был, каналья Фернан!
И, можно сказать, он преуспел! Но и про свою военную карьеру, с её подвигами, он, конечно же, не забывал, доказательством чему служили те несколько платков, что лежали в ящике его прикроватной тумбочки. Уверяю вас, были они чисты, но с завязанными на них, по три на каждом, узелками. Поди узнай, чему они должны служить памяткой. Сожалел ли о чём-то, наш Фернан? Или же каждый из узелков напоминал ему о неких жертвах, чтобы не перепутал он предполагаемых врагов?
Ну, а может быть узелки те являлись наивным напоминанием о давних похождениях, о которых как-нибудь при случае, когда уже не смогли бы они кому-либо навредить, хотелось ему поведать?
Или же, но тогда это действительно ирония судьбы, таким способом ему хотелось напомнить о самом важном - о том, что просто нужно жить! Может быть, тем самым утром, он был разбужен пугающим откровением бессодержательности своего бытия, то бишь бытия могильщика. Не довелось пострадать ему скрытым недугом, который мог затронуть его мораль, но был ли он при этом счастлив? Не хотелось ли ему обменять скромное провинциальное благополучие в этом богом забытом городке на "что-то этакое", пускай и не столь приметное, как коммерция на смерти, на некоторую сумасшедшинку, которая пусть накоротко, но подняла бы его над этим забавным с виду и ставшим для всех привычным домом, на втором этаже которого у него кров, но не было жития? Если бы он осмелился ухватить одно из пролетающих по небу над Эн-Сент-Мартин желаний, то что бы ему досталось? Да, ничегошеньки, кроме страха перед свершившейся мечтой, убившей в нем нечто такое, что вспомоществовало ему с удовольствием предаваться неопределенности.
Мы погрузились в раздумья, которым время от времени мог бы предаваться всякий могильщик, да только не Фернан. Фернан, он всегда довольствовался лишь тем, что падало к его ногам уже лишенным всякой мистики. Он противился любому излишеству, которого не мог достичь. Он обрывал все маковки, но на высоте своего роста, и потому оставался во главе клана, частицей которого был сам, и в котором всё подчинялось чёткому стандарту метр восемьдесят пять на пятьдесят пять.
Время покорежило его душу, оставили на ней свои отметины и те войны, которые он, не страдая излишней щепетильностью, развязывал и выигрывал. Сомневаюсь, что кто-либо пожелал бы обрести такую душу. Вот только переселение душ было меньшей из твоих забот, не так ли, прагматичный мой Фернан?
Если же душа его и была бы ровней прекрасным, полным сил и свежести, то, всё одно, продать её смог бы он лишь единственному, известному на сегодня коллекционеру - дьяволу. Впрочем, и я, заинтересуйся ею дьявол, охотно уступил бы свою, в обмен на то, чтобы стать невидимым. Незаметность - вот главное! Старость не пугает меня, я уж понемногу старею. Как говорится, было бы здоровье, а возраст, он каждый по-своему красив. И потом, только с возрастом узнаёшь толк во всем, приговаривал Фернан. А по мне, лучше стареть так, чтобы другие не видели твоих морщин и сами не морщились бы при этом от наслаждения. Ну, а если, однажды, я больше не смогу скакать невидимым, то обопрусь на палку. Представляю себе свою палку, прогуливающуюся среди честной, недоверчивой публики. Да, это было бы чертовски забавно… а сколько пересудов-то было бы! Лучше уж сразу попросить у дьявола и палку невидимую. Вот только думать о том начинаем мы, достигнув преклонного возраста, по настоящему лишь состарившись, свыкшись с ежемесячными визитами к геронтологу для обследования нашего остеопороза, замедления жизненных способностей и дегенерации нейронов.
Мы просматриваем на страницах полюбившейся газеты некрологи, дабы убедится в том, что нашего имени там нет пока… перед тем как привстать… быть может в последний раз…
Но старость бывает и иной. Той, что в тот самый момент, когда жизнь ваша только-только пошла на подъём, обмазывает ваши крылья клеем. Я знаком с этим давно. Им она покрывала меня постепенно, слой за слоем. Первый слой лег на меня по смерти отца, я перестал беззаботно смеяться, лишился глубокого сна. Мать, оставив меня сиротой, наклеила на меня ещё с десяток лет. Но старым по-настоящему я проснулся утром 2-го ноября. Стукнуло мне в тот день тридцать и, в качестве подарка к моей годовщине, небо водрузило на моем пути Фернана.
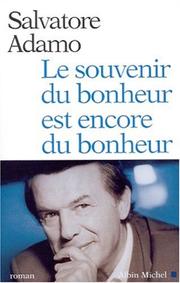

Copyright © 2012
Все текстовые, графические и мультимедиа материалы, размещённые на сайте, принадлежат их авторам и демонстрируются исключительно в ознакомительных целях. Оригинальные материалы являются собственностью сайта, любое их использование (или модификация) за пределами сайта - только с разрешения администрации.
Обзор альбомов
|
||||||
Сальваторе Адамо - общественный деятель
|
Сальваторе Адамо в интернете
|
|||||
...И многое другое...
|
Новости
|
Ссылки
|
О сайте, его авторах и друзьях
|
К СПИСКАМ ПЕСЕН ПО АЛФАВИТУ
























