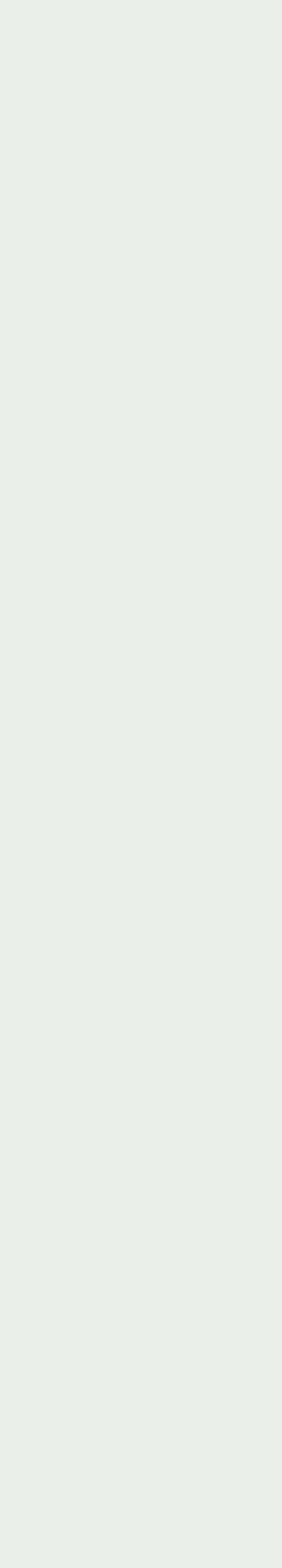


Обзор альбомов
|
||||||
Сальваторе Адамо - общественный деятель
|
Сальваторе Адамо в интернете
|
|||||
...И многое другое...
|
Новости
|
Ссылки
|
О сайте, его авторах и друзьях
|
К СПИСКАМ ПЕСЕН
ПО АЛФАВИТУ
- Нет, нет, я остаюсь на пляже, обожаю солнце… когда ещё придётся позагорать…
- А меня ты хоть немножко любишь, Жюльен?
Цепляясь за наречие, только что смягчившее безусловность толкования прозвучавшего вопроса, я искренне ей ответил:
- Ну, конечно же, Франсуаз, конечно!
И она покинула меня, перед тем чмокнув и радостно улыбнувшись.
Как только исчезла она, тут же вновь стал самим собой и я. Вернулись в прежнее состояние и впалые щёки мои, и бледность моего лица. Мне следовало вернуться к первоначальной раскраске и вернуться на пляж. Феномен на этот раз оказался обратным: люди были тощи, грустны и бесцветны. "Уф, - подумалось мне, - всё это солнца шуточки!" И прикорнул, на минутку, под влиянием окропившего блины шабли.
Когда сознание вернулось ко мне, отдыхающие окрест меня приняли свою "нормальную" наружность, и мне удалось рассмотреть всевозможные, привычные формы - груши, кувшина, амфоры, вешалки, страуса, новогодней ёлки, отсутствие оной, порыва ветра, чека, чаевых, всяческих хлопот, а были среди них и такие, которые имели уже теперь форму своего гроба; глаз мой заострялся уже профессионально.
Тут вышла из воды некая женщина, сплошь урытая морщинами так, будто запутали в рыболовные сети её, сумевшая однако сохранить жесты, лёгкость, смелость и ложную стыдливость юной девы, а потому скрестила руки на голой иссушенной груди, томно, по-кошачьи, покачивая бюстом из стороны в сторону. С видом заговорщицы улыбалась она сидевшему на раскладном стуле мужу. Тот, с видом счастливчика, разглядывал её поверх журнала. Знакома ему всякая из морщинок его дульцинеи, смог бы перечислить он их все, вновь прожить их, проследить их по карте жизни, задержавшись на всём, всем растрогавшись. Конечно же, захотелось мне втихую посмеяться над мятой этой и сморщенной Венерой, но тут же передумал, за видимой обыденностью её заметив руку Боттичелли.
Франсуаз объявилась лишь после полудня. Была она теперь в закрытом купальнике, чёрном в широкую жёлтую полоску, облегавшим её столь плотно, что казалось он вот-вот разорвётся, как сказал бы я о нём ещё вчера, но нет, я находил её "потрясной" в этаком вот образе пчелы-чревоугодницы, существа столь же мифического, что твои индейцы племени Майя. И в очередной раз внимающие глаза мои вновь надели увеличительные линзы и вернули меня в мир надутых гигантов из рекламы Мишлена, в котором и пребывал я вплоть до возвращения в Эн-Сент-Мартин.
Утром следующего дня, в понедельник, встретил у Легэ я Розарио. Тот явился сообщить мне, что он, мол, выдержал экзамен на инспектора и приступает к работе в следственном отделе Монса. Я искренне его поздравил. Он же с лёгкой издёвкой продолжил:
- Ну, что, cumpari, воздух морской пошёл тебе на пользу, ты в отличной форме.
Всё ему было известно, Франсуаз эмоции свои не смогла сдержать. Заведение Легэ целиком, от Фернана до матери его, от Фирмэна до приходящей уборщицы было в курсе всего. Пока лишь мне одному не было известно, что я просил руки м-ль Легэ. Понял это я, когда патрон отвел меня в сторону, чтобы прочесть мне речь, полную полезных советов, любому-отцу-который-берёг-дочь-свою-как-зеницу-ока положено их иметь для будущего зятя.
Как мог, сдерживал я восторженное устремление это, имевшее виды на не столь уж и радовавшее меня будущее, но, при том, окончательно и бесповоротно аннигилировать чаяния семейства Легэ мужества мне не доставало.
На следующей неделе, впервые, пригласил меня Розарио к своей матушке. Она, конечно же, была в курсе о "помолвке" моей. Разумеется, мадам Беллясе говорила мне о сыне и прежде всего о присущем ему чувстве юмора, некоторые образчики которого успел испить и я. Она рассказала мне, как встал однажды он на рассвете и высадил в огороде, рядами, спагетти… а всё затем, чтобы нашли их, проснувшись, младшие его племянники и племянницы и верили бы несколько лет подряд, что макароны прорастают по весне, как и добавленные к ним в тарелки помидоры.
Припомнила она и достопамятное то Рождество, на котором весь вечер Розарио надоедал буквально каждому из собравшегося на празднество семейства, справляясь о самочувствии красной рыбки, почему-то казавшемся ему странным. Аккурат в полночь он подошёл к аквариуму и воскликнул: "Идите сюда, смотрите, у рыбки малыш - это новый Иисус". К тому времени все уж пребывали в благодати господней, а потому принялись вопить о неком чуде. Немного понадобилось им времени, чтобы вспомнили они о яйценоскости красных язей и зашлись в хохоте, веселясь и досадуя, что попались в ловушку. Шутник, проделавший это, явился к маменьке с небольшим, наполненным водой пластиковым пакетиком в своём кармане и розовым мальком в нём.
Солью тех двух анекдотов был тот самый Розарио, каким я представлял его себе, и которого любил. Всегда наготове у него было что поведать мне, большей частью нечто захватывающее о нашем с ним отчем крае, о подчас тупой решительности некоторых наших соотечественников, в том числе дядюшки его Тури.
Как-то раз, сидел тот на пороге дома своего и ковырялся перочинным ножом в ногтях своих, и пристал вдруг к нему, к terrone (южанину) некий polentone (северянин).
- Извините, что беспокою вас, месье, не могли бы вы сказать, сколько времени придётся потратить, чтобы дойти отсюда до вокзала?
Не отрывая глаз от ногтей своих, отвечал Зиу Тури иссушенным на солнце голосом своим: "Cammina!", что на хорошем итальянском означает: "Марш!", в просторечии же, понимается так: "Убирайся! Выметайся!"
Задетый резким тоном сицилийца и тыканьем в свой адрес туринец извинился за назойливость, но добавил, что тому всё же следовало быть повежливее.
- Cammina! - повторил Зиу Тури.
Представитель севера Италии, раздосадованный, пошёл прочь. Едва осилил несколько метров он, как автохтон крикнул ему:
- Чтобы добраться до вокзала, тебе нужно двадцать минут!
Турист, удивлённый неожиданным тем участием, дядюшку поблагодарил, однако не мог удержаться и не упрекнуть того в изначальной грубости.
- Но, не зная с какой скоростью ходишь ты, как мог бы сказать я, сколько времени придётся потратить тебе, чтобы добраться до вокзала? Тоже мне, ловкач!
В конце встречи поднесла мне синьора Беллясе в качестве свадебного подарка пару чашек итальянского фарфора. Напрасно отрицал я наличие обязательств за собой, признан был скрытным и чашки вынужден был унести. Придя к себе, удивился их тонкости. Взял одну из них в руки, полюбоваться ею. Слишком порывисто сдавил её, что ли я? Хрустнула она меж пальцев моих. Вздрогнул, конечно, я, однако, собрав осколки, уснул, особого значения инциденту не придав.
На следующий день Розарио принёс мне другую, взамен вчерашней.
- Держи, это от матушки моей, разбитая чашка к несчастью, следует как можно скорее заменить её, а не то проклятие накликаешь.
- Постой! Ты что это мне тут рассказываешь? Что всё это значит? Как может знать она, что разбил я одну из двух чашек, я же не говорил об этом никому?
Розарио только и ответил:
- Она знает!
Итак, вперёд! Никакой чертовщины, за работу - нас ждёт Марсель!
Марсель Грэгуар покорно предавался обряду примерки, совершаемому над ним портным перед тем, как сшить фрак, серые брюки в полоску, жемчужного цвета жилет тонкого фетра и тщательно подобранный шёлковый галстук, завязываемый большим бантом. Законченный ансамбль ему весьма к лицу, уподобляет "отцу невесты" с известной гравюры. И блестящий сей наряд, в ожидании великого дня, повешен в гардероб.
Когда мы приспосабливаем останки Марселя в восьмиугольный гроб массивного дуба, в доме у него всё перевёрнуто вверх дном. Семья его, ничуть не смущаясь, приняла нас среди увядших цветов, остатков пиршества, конфетти и зерен риса, устилавших столы и пол гостиной. Накануне здесь имела место быть свадьба дочери. Не успел ещё трактирщик и столы накрыть заново, застигли мы его за сим врасплох.
Почти сразу же после примерки обнаружилась у Марселя прогрессирующая опухоль головного мозга и будто нарочно, всего несколько недель после того, как жена ушла к маклеру, уговорившему его застраховать свою жизнь в пользу супруги. Дочь его, Лаетития, двадцати двух лет от роду, была беременна. Об отсрочке церемонии не могло быть и речи - в будущем новобрачная рисковала не уместиться в платье от Лефевра, шикарного по местным меркам кутюрье.
В день свадьбы часть брачного кортежа всё же завернула в госпиталь, дабы поприветствовать беднягу Марселя. Будучи под морфием, больной, тем не менее, имел право на короткий проблеск сознания, который позволил ему различить присутствующую рядом дочь, почти что состоявшегося зятя, сына своего и жену, все в парадном одеянии. И, вот так сюрприз, страховой агент, несомненно надеющийся, что Марселю достало времени переварить супружеское разочарование, тоже здесь - никакого напряжения, улыбающийся, полон дружелюбия и сочувствия. Нашёл даже несколько ободряющих слов, дескать, настало время примирения и цивилизованных отношений.
Кутилы покинули комнатку отца-неудачника, обнаружившего в себе то ли силы, то ли чувство юмора выдохнуть им в след, чуть сдерживая слёзы: "Веселитесь же!"
Едва оставшись наедине, Марсель сорвал шланги со своего блока жизнеобеспечения и перестал дышать, проявив волю, которая приходит лишь к тому, кто оказывается по ту сторону жизни.
Не имея возможности добраться до семейки во время церемонии, старшая медсестра лишь после полудня смогла сообщить о кончине месье Грэгуара той, которая всё ещё оставалась его супругой. Она приняла новость с достоинством, но остатку семьи передала её глубокой ночью - изобразив, конечно же, при том крайнее изнеможение - лишь когда стихли слова последней песни и "расплелись" уже все танцующие. Напыщенные, упившиеся и уевшиеся, смеялись и шутили, будто ничего и не случилось; дом семейный свадебному гулянию показался более уютным нежели квартирка маклера, и в доме том всё ещё продолжал смеяться рядом с женой своей Марсель с той самой свадебной фотографии, которая царствовала на почетном месте, над буфетом красного дерева.
Долго ещё вынуждены мы держать на плечах своих гроб, прежде чем водрузить его на составленные по три в ряд стулья, всё то время, пока явившийся всё ж таки трактирщик с командой своей более-менее не подчистят место для них. И едва сдерживавший себя Фернан, а вместе с ним Фирмэн, сын умершего и я сооружаем обрамление из горящих свечей.
Случаются дни, когда и не живёшь вовсе… те дни полны солнца, но холодны как стекающая сквозь пальцы последняя надежда. В такие дни, как только выберешься из постели, убивает тебя полным разочарования взглядом зеркало, и поливаешь ты никогда не раскрывающиеся цветы; зовёшь тогда кого-нибудь из друзей, хочешь слышать чей-то голос, а слова его, нужные как воздух, натыкаются на твоё замешательство: "Хорош хандрить, все рады тебе", - искренне говорит он, и ничего не происходит, а ты снова в дураках и одинок, как никогда… так-то вот… бывают такие дни, когда как бы и не живёшь.
К счастью, случаются и другие дни, о которых, как поведал нам о том Д. Д. Сэлинджер, мечтала рыба-банан, когда зацветают в саду грёз голубые розы. Всё вокруг небесного цвета, и примечаете вы зелёный луч, след некой, пусть и грозовой тучи, и узнаёте розовато-лиловый отсвет, оставленный небосводу дуновением надежды.
Накануне вечером смотрел я по телевизору известную картину, "Он и она", фамилию режиссёра я проморгал. Навеяло та на меня кой-какие мысли. Кэрри Грант и Дебора Керр, и вправду великолепная парочка, устраивают свидание на сто втором этаже Эмпайр Стейт Билдинга. Знакомы-то они всего ничего - в одно и то же время, случайно, оказались в одном и том же отеле, на Лазурном берегу. Друг другу понравились, но за каждым уже болезненный опыт несостоявшегося счастья. И, остерегаясь пьянящего дурмана любви с первого взгляда, на поверку-то всё могло обернуться очередной иллюзией, решили потому дать друг другу время на осмысление: договорились встретиться ровно через год, день в день после первого поцелуя, доверившись судьбе. Какое благоразумие, не правда ли? Короче, он на месте, чтобы тоже там быть, сделала всё и она. Но, увы, в тот самый день и всего в нескольких метрах от того самого небоскрёба, попадает в автокатастрофу. В клинику доставляют её с параличом ног, оттуда выходит она несколько дней спустя, прикованной к инвалидной коляске. Можете пускать слезу, никто бы тут не удержался.
Ожидает он её до закрытия дверей знаменитой башни. К полуночи, убедившись, что возлюбленная от него отреклась, сглатывает все свои мечтания о новом счастье и возвращается к прежнему одиночеству. Позже, будьте покойны, он её найдёт, узнает о своей "лапуле" правду и… всё прекрасно - она излечивает недуг, они счастливы и у них много детишек. The end! С подстрочечным титром: "Конец".
Тронутый красивой и поучительной историей, решил я совершить романтичный и наивный поступок - пропихнуть Тино Росси в члены известной группы с обострённой формой Эдипова комплекса. Написал на совершенно белом листе бумаги я то ли послание, то ли SOS, то ли ультиматум, то ли просьбу. Сложил его пополам, верхние края загнул к центру, обе половинки завернул в обратную сторону, раскрыл… и т. д. и т. п., пока не получился наконец маленький кораблик. Самим собой я остался доволен; а как же, ведь в последний раз получился он у меня никак не менее двадцати лет назад.
Не имея под рукой Эмпайр Стейт Билдинг - разве что выстроить для неё нечто подобное, укладывая по камню за каждую минуту отсутствия её - назначил я свидание пройдохе моей на четвёртом этаже мерзкого жилища; обернулось бы раем оно, соизволь она хотя бы ещё раз с балетными, тридцать восьмого размера, пропорциями своими ступить на ведущие ко мне лестничные, устланные грязной бумагой ступени. Осмысливая послание своё ясно понимал я, что повседневный антураж мой вряд ли был подходящим декором долгожданной встрече, придать которой хотелось мне как можно больше блеска. Тогда взял я другой лист и письмо переписал. Намереваясь даровать избраннице исступления моего заслуженную ею красоту, назначил я ей то невероятное или же чудесное свидание в музее Оранжерей, в гостиной Нимф, в оговоренный день и никак не иначе. Исписанный лист ламинировал я целлофаном и вновь проделал мудрёную укладку. Отдельные сгибы скрепил прозрачной липкой лентой и, вот, кораблик был готов к плаванию.
Я направился на берег Эн, метрах должно быть в ста ниже по течению от очистной станции, где освобожденные от безобразия нечистот воды её через деривационные каналы стекались в нормальную с виду речку. Должно ли мне уточнять, что и здесь уже можно наблюдать отвратное явление в ней покрышек, консервных упаковок и презервативов. В месте том, однако, она хотя бы течёт и уж одно это оправдывает то, что доверяю я ей своё послание, вой влюбленного волка. Нужно же что-то пробовать… я и испробовал - приём однодневка, акт бескорыстия, миг идиотизма, образчик слащавости, в любом случае была у меня уверенность, что единственный, кому сие ведомо, это я.
Эн… странное имя у этой речки. Тем более, что изначально звалась она Агна, и ничто не предвещало того неприглядного её переозвучивания. Потому и звалась Агной, что судьбой было ей уготовано совсем иное, за то и уважение было ей. А Злобного, досталось же кому-то прозвище от неё, должно бы называть Агнцем, и обитатели тех мест, то бишь Агнцовы дети, веками покорно паслись на зелёных выгонах и покрытых мальвовыми облаками люцерны холмах.
Некоторые историки утверждают, что идея та исходила от Юлия Цезаря, дескать, дабы покарать обитавших на её берегах доблестных Нервьенов за противление намеревавшимся преодолеть водную преграду центуриям его и нацепил он ничтожное или, по меньшей мере, несимпатичное то поименование.
Отсюда и непримиримость наша, высокочтимый Кельт из Франции. Не заявлял ли Юлий, что из всех народов кельтских бельгийский самым храбрым он считает? Такая вот история… Отсюда и мщение: за упрямство наше гордое приговор прекрасному потоку нашему на бесчестие, в грядущих поколениях. Мелок, однако, ты, о, великий Юлий!
Римляне, всех нас[10] к великому сожалению таки покорившие, увековечат плоскую остроту и много веков подряд с презрением и злобой регулярно станут плеваться и писать в бедную и ни в чём неповинную реку - тем и можно объяснить пенящиеся порой, будто покрытые слюною воды её. И потому-то, на самом деле, не призывают воды Эн к купанию, супротив Амура, воды которого, впрочем, не менее грязны.
С другой стороны, "haine" то же самое, что по-латыни odium, объяснявшее предкам нашим всякую принадлежность к славе и почёту, но, как мне кажется, доверия сиё заслуживает мало.
Другая, более прагматичная историческая школа утверждает, будто слово "haine" происходит от кельтского aien, смысл которого сводился к простому понятию "бежать, течь". Должно было это означать, что Эн всего-навсего речной поток, и что когда-то она и в самом деле текла, теперь же выглядит продрогшей и в замедленном подрагивании вод своих несёт в них нечистоты всех окрестных этих мест.
Сможет ли кто-либо ныне поверить, что некогда с радостью вилась она меж лугов и болот, полная карпов, щук, линей, колюшки и прочей пресноводной рыбы, мимоходом поглаживая растущие по берегам деревья, огибая и при том одаривая своей прохладой хутора и деревушки, жители которых удостаивали её доверием своим, сидя на гостеприимных берегах её и полоща в водах её ноги свои?
Времена меняются, и ныне ползёт она стыдливо меж замечательных наших терриконов, гигантских могильных холмов, подобных Альпам гор хлама, слишком бедных для использования угольных отбросов, смешанных с извлеченной при проходке галерей, ведущих к угольным пластам, землёй. В пятидесятые протекала она вдоль поселений со сбившимися в кучки шаткими, едва не разваливающимися постройками под ребристыми толевыми крышами, схожими с вагонами поставленных на вечный прикол поездов. Позже, обернулись они свалками бетонных конструкций, грубых, шершавых и бездушных, если только не вдыхали в них свою душу популяции иммигрантов, вынужденных довольствоваться, хотели они того или нет, и этим. То тут, то там преодолевала она хитросплетения кабелей и металлических балок, когда-то участвовавших в работе лифтов, спускавших героических шахтёров на глубину в тысячу метров лишь затем, чтобы обмакнуть там в ванну чёрных чернил, а потом на белёсых стенах их бессонных ночей навсегда отпечатать пережитые ими страдания, поступки их и дела их, мрачные страницы книги их жизни. И теперь ещё, средь изъязвлённого камня и ржавого железа, промеж сортировочных ангаров с выбитыми стёклами и застывших на оказавшихся вне закона рельсах вагонеток возносятся к верху эти туры молчаливыми, недвижимыми стражами гнетущего запустения, напрасными и призрачными.
Перед тем, как оказаться среди восторженной публики Эн-Сент-Мартин, заполучить фейерверк из их отбросов и экскрементов, река вначале, чуть выше по течению, набивается ими в Морланвельце, в Эн-Сент-Пьере в Карниере и… хорошо гниёт тот, кто гниёт последним. Как деньга бежит к деньге, так грязь липнет к грязи, а пустые обещания нанизываются одно на другое вниз по течению, от обитателей Эн-Сент-Поля к жителям Сент-Вааста, и так далее, и так далее, вплоть до Жемаппеса, где и река-то уж не более, чем едва ползущая свалка мусора, и где, агонизируя, получает она последнее причастие своё в виде некого притока, который называется, держитесь, чтобы не упасть - Труй. Ну да, понатворили с ней, с бедной этой Эн. А у меньшей, запоздавшей сестрёнки её, ничего такого, кроме скверного имени. Может статься, что мадам Пубель[11] с мадам Будэн[12] на самом-то деле и весьма милые дамочки, лишь укрытые отсветом фамилий знаменитых их мужей, да только вот Труй, ручеёк и вправду премерзкий. К великому счастью, вязкие и смрадные воды его, с плавающими в них хилыми, никогда не закрывающими пасть крысами, летом укрыты тучами хмельных от омерзительных испарений комаров, а зимой - зацепившимися, за проступавший из его берегов уголь, туманами.
Эн и Труй… нежные ручейки из детства моего. Мы, пацаны шестидесятых, легкомысленно алчущие приключений, не колеблясь пересекали роковой сей Рубикон, преследуя или спасаясь, по обстоятельствам, в противостоянии с бандами завоевателей из соседних деревушек. Пересечь вплавь ту безобразно липкую жидкость, которая должно быть стекала с терриконов, было теперь мерилом истинной удали.
Начало пути Эн на Голгофу вряд ли сегодня можно датировать с точностью до дня. Уже в XIV веке уголь становится повсеместно и каждому доступным к использованию, ну а река - средством его доставки. Живущие по её берегам копатели угля переправляли его в мешках, влача их к берегу на спине и затаскивая на баржи, обзываемые тогда керками. Потом настал черёд двухколёсных повозок, и пусть понемногу, но за столько-то времени, понасыпалось его по пути миллионы тонн, и потому-то почернели прямо на глазах некогда зелёные речные берега, а ещё недавно хрустальной чистоты речные воды зловеще засверкали фиолетовыми и зеленоватыми шлейфами.
Отталкивающий вид и испускаемые ею миазмы стали досаждать жителям прибрежных деревень столь сильно, что те решили соорудить поверх её дорогу. Чтоб и духу её тут не было. Несколько лет тому назад даже была совершена частичная её "эвтаназия". Через несколько километров, там где стало невозможным её "закатать", была она упрятана в трубу, что и тянется теперь вдоль автострады Париж-Брюссель.
Именно той гнусной полоске соплей и доверил я своё прошение. Уф… то состояние моё, в котором я пребывал тогда…
Находился я метрах в ста от мостика с названием Беспокойство, висевшего над рекой моих надежд. При виде его пришла мне на ум одна идея. Тем же вечером, уже в сумерках, нескольким, весьма редким прохожим дарована была привилегия наблюдать на мосту некий, вытянувшийся рядом с большим ведром силуэт. То был я и огромной кистью, ярким солнечно-жёлтым цветом, для себя как бы кверху ногами, выписывал я сквозь столбики перил имя той, кому предназначено послание, доверенное речному потоку. И добавил: "Я тебя люблю". Полотнище железобетонное получилось десяти метров длинною. Тем был я весьма горд, не смотря на то, что оказался в воде - пришлось перелезть через поручни, чтобы закончить нижнюю завитушку буквы "Я". Не позабыл я и про художественный образ виденного мною, не хотелось халтурить с сюжетом своего предложения, речь-то ведь шла в нём обо мне, о моей жизни и о ней, как о прямом продолжении моих желаний.
Несколькими днями позже почти вся пресса на все голоса заговорила про мост Беспокойства, но не в связи с моим, в стиле концептуализма, произведением, что вполне меня устроило, потому как могло усилить и без того громкий вопль любви моей. Так нет же, склонять получивший известность мост стали из-за некого мясника, бросившего у опор его несколько мусорных мешков с останками разрубленных в куски женщин.
Говорил же я вам, что Эн речушка премерзкая…
Какое-то время я ещё ждал.
Она же избегала меня, и надо ж такому случиться - я засомневался в реальности существования её. Отчаявшись до готовности на невесть что, отсюда и лёгкое то исступление, о чём я рассказывал вам не так давно, оставался я всё же в здравом уме по отношению к такому немыслимому, как личное прошение к любой из сестёр по одиночеству прибрать меня к рукам. Сам себе я говорил, что коль паруснику моему и будет суждено юркнуть в чью-то гавань, то встретит пусть его всё ж таки женщина и не из человеколюбия, но как избранника своего. И непременное условие - нужно обязательно, чтобы имела она на то добрую волю свою, ей предстояло собрать из кусочков пазл, каким стал я в собственных глазах. Так же нужно, чтобы была она красива, умна, эрудированна, чтоб способна была остроумием своим вдовца новоиспечённого рассмешить до слёз и, конечно же, умела готовить обожаемое мною ризотто с мозгами. Ничуть не меньше! Если и хотелось мне заключить соглашение со сверхъестественным, то не любой же ценой. Благоразумно предоставил я ей год и один день на то, чтобы разыскать меня. По истечении сего срока мечту свою о любви рассматриваю аннулированной…
А время шло… Для Легэ, как у пахаря - по кругу, для меня, ошалевшего от неумолимо следующих друг за другом из месяца в месяц похорон, от бесплодных диспутов с самим собой о сердечной пустоте, которую ей не дано понять, от растерянности и умиления, от не отпускавших меня поводьев давно минувшего счастья, удравшего в те звёздные миры, где вновь когда-то обрету я свою Арлезианку. Так и дожил снова я до преддверия очередной годовщины своей.
На дворе двадцать пятое октября - день святого Крепина, покровителя всех сапожников. Никогда того не забуду: была суббота, на завтрак у меня был омлет.
Смею вас заверить, что кашевар я отменный, что нет мне равных в приготовлении импровизированного блюда из сублимированного теста под сложным соусом из всего, что вывалится из холодильника в руки мои, по рецептам пришедшим на память мне из далёкого прошлого, когда часами наблюдал я маму за стряпнёй, скромной, но всегда чарующе пахнувшей. Для возлюбленной моей, на всём готовеньком живущей, превзошёл я себя самого. Аппетит у неё птичий, но удаётся мне щекотать ей вкусовые бугорки оригинальностью моего меню. Проделываю я это с такой любовью, что не в силах оставаться она безучастной к предложению моему отправиться в путешествие к божественным запахам Сицилии моей. Она вегетарианка и обожает рыбу. Так вот, многие часы затрачиваю я на то, чтобы подавать ей всякий раз совершенно новое, достойное её блюдо. Припоминаю, что обожала она сардинки al beccafico с лимонными дольками. По-настоящему воздала мне она почести, попросив приготовить их снова несколько дней спустя. При упоминании beccafico избалованная смоквой птичка моя, вилась вокруг, не отставая ни на шаг, следя за всеми приготовлениями и изготовлением самого блюда, таская ингредиенты и макая в соус палец свой нетерпеливо, что твоё дитя. Был счастлив я и существовал лишь для неё. Я напевал, потроша сардины, разбивая яйца и уснащая их толчеными сухарями, натёртым pecorino и несколькими ягодками изюма. Старательно нарезал я в тонкие ломтики лимон и посыпал их диким укропом, чёрным перцем, солью, окроплял настоящим, нашим оливковым маслом. В общем, всё как там!
Сальваторе Адамо. Воспоминание о счастье - тоже счастье...
Salvatore Adamo. "Le souvenir du bonheur est encore du bonheur..."
(перевод Колягина)
СТРАНИЦА 8

Copyright © 2012
Все текстовые, графические и мультимедиа материалы, размещённые на сайте, принадлежат их авторам и демонстрируются исключительно в ознакомительных целях. Оригинальные материалы являются собственностью сайта, любое их использование (или модификация) за пределами сайта - только с разрешения администрации.
К СПИСКАМ ПЕСЕН ПО АЛФАВИТУ
























