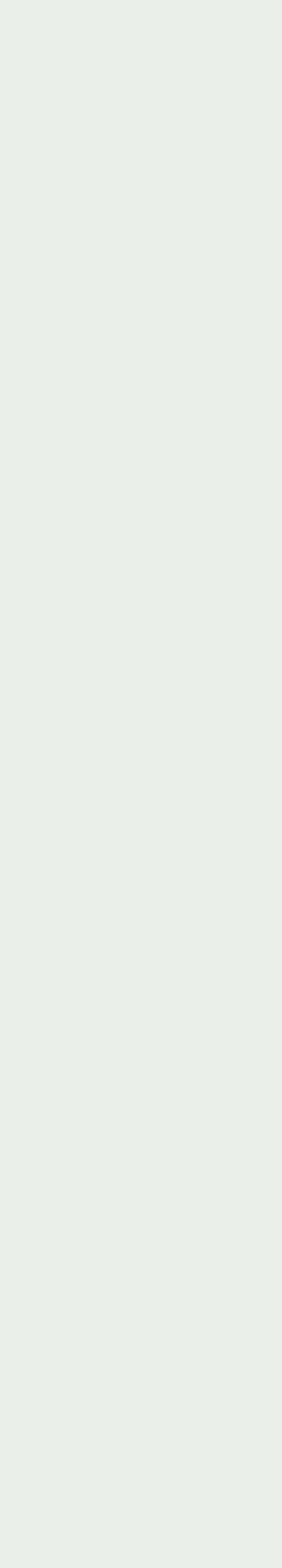


Обзор альбомов
|
||||||
Сальваторе Адамо - общественный деятель
|
Сальваторе Адамо в интернете
|
|||||
...И многое другое...
|
Новости
|
Ссылки
|
О сайте, его авторах и друзьях
|
Еду вторым классом, мне не до шика. На первой же остановке заходит пожилой мужчина. Все места заняты. Он ко мне и просит, скорее даже настаивает, чтобы я место уступил. Осмеливаюсь заметить ему, что под оказание знаков уважения по возрасту подхожу не я один. Намекаю, в частности, на сидевшего напротив меня ретивого, полагавшего, что являет собой пример исполнения гражданского долга, солдатика. Старикан вздыбился и, призвав в свидетели весь вагон, заявил, что молодой тот солдат, мол, бельгиец и к тому же в своей собственной стране. Нос старика, видимо, натаскан на чужестранцев! Мне бы ему возразить: так мол и так, "я по-французски не хуже вашего говорю", но вместо того подавленно снимаюсь с места. Да и сэндвич мне сгрызть пора, да и добрался я уже, а значит у меня для протеже моей целый час времени, которым располагал я ежедневно в обеденный перерыв.
Шарли, увидав меня одного, похоже удивлена.
- Олан, - лепечет она, - доблый день, Олан.
Вот те раз! Значит и р произносить правильно придётся ей заново научиться, говорю себе, мысленно закатывая рукава.
Ролан исчез. Пьеретта, мамашка его заботливая, несколько недель уж не носит мне ризотто. Дитя на меня сбагрили, что называется. Ну, да это пустяк, я-то до конца пойду, жалобиться не стану. Просто слова "отвечать за других" смысл свой истинный обретут. Не совершу более ни единой, способной встревожить её глупости, пусть и придётся познать детский этот, со всей очевидностью отражавший смятение её разума лепет. Я вырву её из этого вторичного состояния с забитым тучами сознанием. И будь, что будет, но я готов стать для неё тем белым полотном, на котором смогла бы она по собственному разумению рисовать ли или малевать воспоминания, лишь бы те заняли в её сознании прежние свои места.
Не было у меня плана зондирования зыбучих песков, каковым являлся мозг Шарли. Вот и решил я идти к цели по наитию, роясь в предоставленных мне беспутной внебрачной сожительницей воспоминаниях с два годочка длинною.
И принялся я обо всём справляться, толкования искал, фото какие-нибудь, слова, описания, в общем всё, что могло иметь отношение к ней. Даже журналы по психоанализу стал почитывать. В одном из них обнаружил соображение, согласно которому Шарли могла столкнуться с позабытым звеном из цепи неких имевших место в прошлом событий, что вызвало феномен supratemporalite, при котором одно действие не может быть совершено без воспоминания о другом, которое в свою очередь должно провоцировать первое. Я при том хотя бы новое слово узнал. Даёшь это самое supratemporalite!
Речь на самом деле шла о новом обретении огня, с долгим трением куска твёрдой деревяшки о мягкую до тех самых пор, пока вырвавшаяся из глубины времён искра не станет пламенем. Разница лишь в том, что мне было ведомо о существовании у Шарли сознания, пусть и затуманенного, тогда как первому тому человеку мысль о терпеливом жесте, за которым явится огонь, пришла через указующий перст Господа.
Мне нужна была консультация доктора Мишель, у которой на руках была история болезни Шарли. Укладывались ли в рамки назначенной ею терапии мною предпринятые хлопоты? Не шли ли они в разрез тому?
Я изложил ей свои соображения, чем у неё лишь улыбку вызвал. Мне казалось, что Америку открываю, на деле же предлагал я самый обычный лечебный вариант, к которому она и сама склонялась. Просила уж даже мать Шарли принести ей всё, что могло бы быть значимым для того, чем оставалось сознание её дочери. Так что, мне предоставлялось явить свою волю полной мерой при непременном условии, что о своих хлопотах я стану извещать мадам Эрман. Усилия наши должны соответствовать друг другу и дополнять друг друга.
С большим, нежели прежде усердием принялся я за изучение психоанализа, в частности шизофрении и нарушений памяти. Вечера напролёт не вылезал из местной муниципальной библиотеки. Познания при том мои, разумеется, оставались поверхностными и весьма нестойкими, но хотелось мне собственное своё мнение иметь. Я штудировал самого Фрейда, пытался разобраться, отчего же это Рейх[22], последователь его прямой, пришёл к противоречию с учителем и отошёл от того. Мне хотелось знать, кому я мог доверять. Так вот, могу сказать вам, что так и не смог избавиться от ощущения, что всё вычитанное мною касалось Шарли едва. Все те гримасы и искривления собственного я в борьбе с надо и сверх я, все эти отвергавшие любую ответственность за лишённое оснований содеянное сознание и подсознание отзывались во мне скепсисом. Ничего лучшего влечению всяким обычным явлениям имена ученых мужей приклеивать так и не надумали. Вы чешите низ живота по причине не то блох, не то нервного зуда, а вам говорят, что вы даёте волю courant orgonotique, что в переводе означает особую химическую реакцию в процессах подпитки либидо. И ничуть не меньше!
Нет желания у меня педанта из себя изображать, да и термины эти все, по-настоящему не поняв их, прочёл я впервые в жизни и, тут же, конечно же, все их и поперезабывал бы, не сделай я пометок в своём дневнике. Однако, то, что касалось воссоздания перед "пациенткой" моей "словесных" картин и образов всяческих, должных вызвать внезапное прояснение её разрушенного сознания или же пробудить упрятанные в умерщвленной плоти эмоции, всё это казалось мне и рискованным и неадекватным. Чувствовал я, что истинную Шарли из хаоса заполнявших булькающую лаву её памяти мыслей может вызвать всего лишь одно некое слово или один единственный жест. Только, какое или какой из них верны? В котором из рыхлых пластов её бытия должно искать мне? В детстве ли, в девичестве ли, в бродяжничестве?
Что бы и как бы там ни было, но единственно приемлемым вариантом лечения представлялись мне терпение, нежность и ребяческие забавы: считалки, шарады и прочие ребусы. Но достаточно ли сберёг я в себе той самой нежности? Я задумался и ответил себе искренно: нежности - да, а вот любви - не знаю. Вот только, как высказался про то Роланд, не о любви речь нынче шла, но об участии к попавшей в паутину умственного угасания.
Лицо Шарли походило на маску уныния и страха. Даже улыбка и та не стирала душераздирающего сего выражения. И как вернуть ему прежние, разумные его черты?
В течение двух недель навещал я её ежедневно. Ни разу не дала она повода подумать, что ждала меня, что рада мне. Всякий раз встречала меня так, как если бы я вернулся из соседней комнаты, с непреходящей и обескураживающей апатией: "Доблый день, Олан!"
И решил я схватить быка за рога, и взял в прокат виолончель.
С благословения Легэ заимствовал я служебный катафалк, с открытой, по причине исключительности момента, крышей.
Прибытие моё в Сен-Бернар обернулось, как вы сами понимаете, сенсацией! Особенно, когда вытащил я на свет божий виолончельный футляр, смахивавший на небольшой детский гроб. Только на сей раз дроги везли на себе радостную ношу.
Вот я и перед Шарли. Она не говорит ни слова, но берёт виолончель, устраивается на единственном в палате стуле и пристраивает инструмент между колен. Протягиваю ей смычок, она прикрывает глаза… и взмывает. Узнаю сюиту № 1 соль-мажор Баха, которую она играет по памяти, всем существом своим играет. Так непередаваемо играла она у меня. Все затворницы пансиона слиплись у дверей, откуда выплёскивались ноты, заполняли собой коридор и перемешивались с зависшими в нём грёзами и кошмарами. Несчастные девы вглядывались в плывущую над ними музыку и провожали её взглядом вплоть до полуоткрытого окна, через которое та устремлялась наружу и взлетала к небесам.
Ну да, всё это я излагаю вам по-своему, как мне на ум приходит. И вы вольны посмеяться над этими остолбеневшими в выразительной своей и молчаливой прострации несчастными. Мог бы я повествование и укоротить, удержаться, так сказать, от подробностей, изложить одну лишь суть.
Но!
Когда в воцарившейся вокруг тишине смычок её начертал последний завиток финального аккорда и прежде того, как вздрогнуть под непосредственными в проявлении своём аплодисментами сестёр своих по дурным привычкам, на превосходном французском успела она обронить: "Растренированы пальчики мои, слегка".
- Да нет, же, - отвечал я ей глупо, но искренне, - это здорово было и очень трогательно.
Она встала, уложила виолончель на бок, а сама прошла к постели и села на неё. Было уже поздно, взор её снова затерялся в небытие. Она улыбнулась мне и произнесла моё имя: "Шюльен".
Меня пробрал озноб. Слово то стало последним вылетевшим в тот день из её прекрасных уст. Лечащая врач-психолог, полная впечатлений, проводила меня до выхода, и я поинтересовался у неё, не приспело ли время покончить с назначенным ранее препаратом Haldol, более известным под именем "таблеточная форма смирительной рубашки".
Поди узнай, вот, откуда ненависть берётся…
Недолюбливать Фернана начал я, как ни странно, в ту самую пору, когда он был более всего участлив ко мне. Желал мне одного лишь добра. Я же испытывал неловкость, стеснялся, едва не досадовал оттого, что человек этот, покладистость коего ко мне отдавала, как я полагал, цинизмом, мог видеть во мне достойного своего преемника. Переход тот его в меня, этакая запрограммированная экспроприация будущего моего пугали меня. Ему хотелось постоянного моего присутствия, я уступил ему уже дневное своё время, так он вбил себе в голову, будто может, словно фагоцит какой, пожирать и вечера мои. Вовсе было ему невдомёк, что на самом деле работу свою у него я принимал как наложенное на меня послушание, с тем чтобы не мог я вдохнуть в Шарли глубокого чувства, способного привязать её ко мне. Всё это воспринимал я за извращённый вызов, как истребление, как долгие, множимые чередующимися усопшими похороны. Согласен, он платил мне за моё усердие, но его настойчивость в желании и сверхурочно получать от меня моё, как он понимал, согласие вызывали у меня к нему всё большую антипатию. Разумеется, я не только мирился с его благосклонностью, но и благодарил его за это. И сетовал на бесхарактерность свою. "Смотри-ка, каков лицемер!" - говаривал я про себя.
Началом тому стало приглашение на ужин - они, дочь и он, вступили в союз с тем, чтобы склонить меня к согласию. Мне подумалось, что особых последствий тому не наступит, и уступил. И вот все мы, втроём, в ресторане, полны веселья и отменного настроения; дружная семейка, да и только. Фернан рассказывает сальные анекдоты и сам же громко над ними хохочет, Франсуаз то и дело закатывает к небу глаза, призывая меня в свидетели отцовской дерзости. Что за дивный и прелестный вечер провели мы. У меня, да будет вам известно, дар скуку и равнодушие улыбкой понимания укрывать. Чудный из меня сотрапезник. Таков я, во всяком случае разумом, чего не стану утверждать относительно телесной своей оболочки. Потому-то и случаются со мной недоразумения. И когда всё во мне противилось тому, всё же не предпринял я чего-либо, что приглушило бы ко мне тягу со стороны Фернана, потому как не доставало ему сыновней привязанности или любви.
И, уж тем более, не смог я отказать ему в удовольствии приобщить себя к карточным играм. Для того завёл игру он прямо в конторе и в промежутке меж двух погребальных обрядов заваливал стол мой пиками, трефами, бубнами и червами, пытаясь вдолбить в мою голову философию виста или как он называл его - бриджа для нищих, любимой его игры. Когда он решил, что усвоенного мною хватит для того, чтобы ринуться в схватку, то пригласил меня в игру - с ним и с двумя его приятелями.
Как ни пытался я растолковать ему, что так и не уяснил в чём же отличие большого мизера от малого, он представил меня превосходным игроком, хитрым и с большими причудами. Сказать о моей игре, что она с причудами, значило ни сказать почти ничего. Целый вечер Фернан потратил на то, чтобы разъяснить своим корешам смысл моей тактики, которая на самом деле не имела его вообще. Не отдавая себе в том отчёта, непринуждённо противился я элементарным правилам игры и при этом ни разу не удосужился проиграть.
Чтобы задеть знатоков за живое, я объявил большой мизер, то есть попытку сыграть, не взяв ни взятки, хотя на руках у меня была большая часть старших карт в одной из мастей. И поскольку всё у меня получилось, они признали во мне гения. Фернан поверил в меня и предложил своим приятелям взять реванш, чего они потом и переносили неделю за неделей.
"Что ж, старина, отбил ты у них охоту… Удрали, поджав хвосты… А какая смелость! Играй ты в покер, ты бы огрёб серьёзные деньжата. Сведу-ка я тебя с серьёзными людьми".
Говорил же я вам, что пестовал меня Фернан, что твоя наседка, не представляя притом насколько сам был мне несносен.
И с чего это я решил, что обидчиком Шарли был Фернан? Не знаю. Это, как любовь с первого взгляда, только наоборот, в общем, всего не объяснишь. Так же, как с верой в Бога, шансов оказаться правым - пятьдесят на пятьдесят, потому-то и лишь немногие отваживаются ставить на кон, под полуправду эту, свою жизнь.
Прозрение апостола Павла случилось на пути в Дамаск, я же распознал в Фернане дьявола на красном светофоре. Вёл, как-то, наш катафалк я, шеф дремал на пассажирском сиденье. Разглядывая перекрёсток, с намерением проскочить его на зелёный свет, отметил я в поле своего зрения и профиль Легэ. На шоссе выбежала какая-то лицеистка в мини юбке, и лицо Фернана, зеленоватого отсвета и с налётом явной похоти, обернулось в мою сторону. Он ждал от меня поддержки ходу своих наигнуснейших мыслей, но я принял вид недотёпы, хотя и представил себе при том бесстыдные и пошлые его руки, руки инквизитора. Подумал я и о дочери его, о предначертанном ему кресте и понял, что человек этот неисправим, что не изгнан из него засевший в нём монстр и насильник, готовый к прыжку на всякую ослабшую, отчаявшуюся жертву, каковой, верно, была и Шарли в тот вечер, первого ноября. И припомнилось мне лицо Фернана утром того понедельника, следовавшего за памятными траурными выходными, с пьянкой моей от отчаяния, попыткой суицида отравлением газом и обжорством ризотто. Случилось это на следующий день за нападением, порушившим рассудок женщине всей моей тогдашней жизни. Память моя, будто объектив камеры, "наехала" на наклеенный поперёк щеки Фернана пластырь… Он скрывал не порез от бритвы, как мне тогда подумалось, а следы ногтей бедняжки Шарли. Нутром это я осознал, хотя доказать не смог бы никогда.
В очередной раз я едва сдержал свой гнев, перешедший в тошноту. Легэ, заметив мою бледность, поинтересовался, всё ли со мной в порядке. "Малость притомился", - ответил я. А, совершенный во всех отношениях, шеф предложил уступить ему руль. Я же съёжился на пассажирском сиденье, представив себе Фернана повешенным на виселице и со ртом, набитым отрезанными гениталиями его. Чуть погодя получил Фернан первую из верёвок, что, должно быть, и довело его до кончины.
Судьба порой выкидывает и не такие коленца.
Ролан куда-то запропастился и не скажу, чтобы мне его не хватало.
Однажды, правда, мы пересеклись и я, желая его реакцию пронаблюдать, как бы уже при расставании, поведал ему о как бы странном случае, рассчитывая при том на его чутьё проходимца с чутким сердцем, от чего ему никак не удавалось избавиться.
Как-то раз, при встрече в парке всё того же медцентра, собрался я уж уходить, потому как Шарли пора было возвращаться в палату, но она обернулась вдруг ко мне и сказала:
- Постой, Фавли боится ствафнава мсье.
И я рискнул задать вертевшийся на языке вопрос:
- Ты что же, того, кто зло тебе причинил, знаешь?
Вышло всё, похоже, неуклюже, и вся она как-то съёжилась, но сидевшая глубоко внутри неё девчушка всё же ответила, поглаживая животик:
- Да, ствафный мсье… и квафное пятно, вот тут.
Как вы, должно быть, заметили, режиссирует всё лишь случай, дерзкая креативность коего превосходит всяческое воображение. Ответ Шарли высветлил для меня одно воспоминание, им-то я с вами и поделюсь.
Во времена нашей, как гласила о том вездесущая молва, помолвки Франсуаз Легэ навязала мне, как-то, визит к своей бабуле по отцовской линии, дабы представить той будущего, во всех отношениях совершенного муженька, каковым, видимо, я в ту пору ей ещё представлялся. Бравая дамочка потчевала нас меню из исторического прошлого своего сыночка, в общих чертах, с моих слов, вам уже знакомым. Когда же мы раскланивались, она уж на пороге прошамкала вдруг: "Д'э туди сю к'ем джамбо оро дель шанс, иль а ен'гросе тас де вэнь'сю панс!", что означало: "Я всегда знала, что моего мальчика ждёт удача, не даром же на животе у него большое винное пятно видно". Не могу передать кисловатости её смеха, оттенявшего ту тираду.
Тогда анатомической сей детали не придал я никакого значения, но стоило Шарли перепоручить мне воспоминание об одной единственной примете своего обидчика, как мозг мой обволокло тяжкой кровавой тучей.
С позволения руководства заведения забрал я Шарли на воскресную прогулку. Розарио уступил мне для того свою машину.
Странно, и весьма, оказаться вдруг наедине с той, кого столь долго дожидаешься без дозволения ни в объятия свои принять, ни перед кем тревогу да отчаяние в одиночестве ночном не отвести. Ирония судьбы, вряд ли иначе, но надобность во мне была лишь для того, чтобы пособить ей вновь обрести ту самую трезвость ума, которая вновь потребовала бы от неё моего изгнания. Ну, что ж, сказал я себе самому, старая это всё история, теперь же речь о том, как запутать возможного её обидчика.
У меня в голове был чёткий план. Я знал, что обедать Фернан завёл в привычку в некой укромной загородной харчевне Фезандри, на берегу пруда во Вьё Марэ. По прибытии на место, я оставил машину на огибавшей пруд дорожке в нескольких метрах от белого, увитого диким виноградом фасада. Красота, да и только. Мы прошли во дворик. Там стоял Мерседес Фернана, точь-в-точь такой же, как и виденный Пьереттой, и в который садилась Шарли. Теперь же, она на него даже не взглянула.
Бойца нашего обнаружили мы за столиком на террасе, в окружении матери и нескольких приятелей. Незаметно я и указал Шарли на Легэ. Одет тот был в троакар, сидел склонившись лицом к тарелке. Она, пристально вглядываясь в него, направилась в его сторону. Я уж было подумал, что она подойдёт к самому столику, но Шарли остановилась в нескольких шагах, продолжая разглядывать его. Я же осторожно схоронился за фонтаном, оживлявшим обветшалую романтичную обстановку, лучшего места не нашлось. Не стану утверждать, что Фернан не догадывался о присутствии Шарли. А если всё было и не так, не думаю, что он признал бы её, настолько не походила она на ту панкетку с ирокезом, на которую он, должно быть, напал. Секунд двадцать спустя, Шарли отвела взгляд и возвратилась ко мне, глаза её всё это время оставались недвижными. Удалились мы скрытно, как и вошли. В машине, прикрыв обеими ладошками лицо, она принялась вдруг дрожать. "Злой мсье, удалил Шарли".
Сомнений у меня больше не оставалось.
Разумеется, абсолютным доказательством вины всё это, как заметил Розарио при возвращении ему его авто, не являлось. Он заявил о слабости аргументации, с его слов покоившейся единственно на интуиции, да на вольном, за уши притянутом толковании возникшего в воспалённом мозгу умом тронутой девицы воспоминания. Ну, да, говорил он мне, именно этими её беспощадными словами в любом суде любой адвокат защиты любому прокурору рот-то и заткнёт.
Только и сам Розарио, он же по рукам и ногам связан с Легэ, сам же во множестве, да на грани фола оказывал тому мелкие услуги, пусть всякий раз и оказывался безоружен перед его юмором… весьма, отметим мы, сомнительного свойства, однако.
Однако, ручеёк предположений моих обрёл тем временем уверенность, поскольку Пьеретта плеснула на мельницу мою целой рекой, пусть то и была Эн.
По весьма тонким намёкам понял я, что мадам Дюпре тайно практиковала старейшее из ремёсел. С возрастом, едва приметным, зародилась в ней тяга к респектабельности. Не в состоянии изменить жизнь кардинально, взялась она за роль распорядительницы. В каком-то смысле в том преуспела - годы службы по увеселению человечества, занятия репутации пускай и сомнительной, но в некоторых подобных заведениях и содержания весьма вычурного, флуоресцирующий товар которых во множестве своём отбрасывает на мостовые Бельгии манящий интригой цвет индиго, даровали ей ореол власти.
Основное владение, вотчина её, оплаченная с её же грудей испариной, обзывалась Blue Night.
Располагала мадам и постоянной резиденцией в респектабельном Морланвельце, прямо против замка Маримонт. В поросший каштанами Ситэ, где в своё время сама преуспевала и куда, благодаря связям, от суеты и лишних глаз сына-гангстера припрятала, являлась она лишь с тем, чтобы собаку покормить, не пожелав в собственном доме ту держать, да за мной, как я понял, присмотреть.
Но, и бывая в Ситэ лишь наскоком, Пьеретта щедрым сердцем своим расположила-таки к себе одну из соседок, напоминавшую ей о былом славную Джузеппину, дамочку в черном манто, о грустном финале которой я вам рассказывал.
Принявшая участие в похоронах бедняжки, признала Пьеретта в Фернане преданного посетителя известных апартаментов призванной тем днём на высший суд. Так-то вот, дорогой наш Фернан.
Тогда же вечером, сидя у меня, поинтересовалась она, что это за тип сидел на пассажирском сиденье катафалка. Я ответил, что то, мол, был мой патрон. Предпочёл расплатиться, не дожидаясь весточки от щеголявшего безденежьем вдовца.
- О, как это мило с его стороны, - заметила она. - Таков уж он, грязный этот развратник.
- Вы его знаете?
- А как же!
И поведала она мне о некоторых неочевидных извращениях нашего Мефисто, в том числе и о его привычке душить раздатчиц удовольствия, и те порой были вынуждены брыкаться и вопить, взывая к его разуму, настолько вживался он в свои патологические фантазии, обуреваемый страстью. Похлопывая себя по животу, повествовала она мне и об одной неудачной затее его, в которой тот стал жертвой одной из присланных ею в загородный дом к нему девиц.
Фернан очень любил пошалить. Той ночью, он приковал щедро оплаченную по такому случаю партнёршу к изголовью медной кровати. В мини плавках, имитировавших шкуру леопарда, влез он на нормандский шкаф, откуда хотел сигануть на матрас, освободить красавицу и радость той доставить.
Но, трах, бабах! Крыша проломилась, и оказался Фернан внутри шкафа, запертого снаружи на ключ, тот в замочной скважине торчал. Девица недвижна, Фернан со сломанной ногой наверх выбраться не смог. Парочка тот ещё концерт задала, но… дом, по желанию самого хозяина, оказался на отшибе, дверца же шкафа - на редкость прочной.
Случилось то вечером… в пятницу, прислуга же явилась… лишь поутру… в понедельник. Правда, выходные, проведённые с полным воздержанием от пищи, застольной и сексуальной, никому пока что вреда не приносили…
- И давно это было?
- Да, несколько уж лет прошло. После того я его из виду потеряла, потому как воспитанницы мои слышать о нём не желали, даже за двойную плату. И потом, им это всякий раз стоило трусиков - маньяк забирал их с собой, в коллекцию. Если хочешь знать, я вычеркнула его из списка, потому что этот пройдоха от раза к разу требовал кошечек всё моложе и моложе, и, когда обозначилась граница сознательного возраста, тут уж их согласие перевалило за мои полномочия, там уж полиция нравов замаячила.
И Пьеретта рассмеялась.
Пускай и я не с неба свалился, но сей штрих из биографии Фернана (а представление о ней я уже имел - Франсуаз об инцесте, к чему не год и не два отец её принуждал, мне уже поведала) заставил-таки и меня содрогнуться от ужаса.
С тех пор три месяца минуло.
Шарли прежней Шарли стала, я Жюльеном - через "ж", как жизнь.
На самом деле, мы оставались всё теми же "ты Тарзан, а я Иван", но не покидало меня чувство, что самое страшное уже позади. Подбадривал я себя, как только мог: давай, Жюльен, ты справишься, Жюльен! Всё Жюльен, да Жюльен… Только не знал я врагов своих и боролся со всем, что попадалось под руку - с отчаянием и смирением, с воплями и плачем Шарли, с когтями и брыканием её, чуть позже с администрацией и медицинскими бонзами.
И верил всему тому до тех самых пор, пока как-то, безо всяких экивоков, не сообщила мне психичка, что мадам Эрман решила забрать дочь к себе. Право на то у неё было, да и, видимо, полагала, что наладит с плотью от плоти своей диалог и заполнит им унылое, вдовье своё одиночество. И принимала ту таковой, кем она и была. Уж не рассчитывала ли заполучить дочь свою послушней той, прежней, но сбросившей с себя рвом непонимания когда-то пролегавшую меж ними взбалмошность? Правда, ничего не попишешь, коли та выглядит - ровно, только что, нейрохирургом скальпированная.
Сальваторе Адамо. Воспоминание о счастье - тоже счастье...
Salvatore Adamo. "Le souvenir du bonheur est encore du bonheur..."
(перевод Колягина)
СТРАНИЦА 16

Copyright © 2012
Все текстовые, графические и мультимедиа материалы, размещённые на сайте, принадлежат их авторам и демонстрируются исключительно в ознакомительных целях. Оригинальные материалы являются собственностью сайта, любое их использование (или модификация) за пределами сайта - только с разрешения администрации.
К СПИСКАМ ПЕСЕН ПО АЛФАВИТУ
























