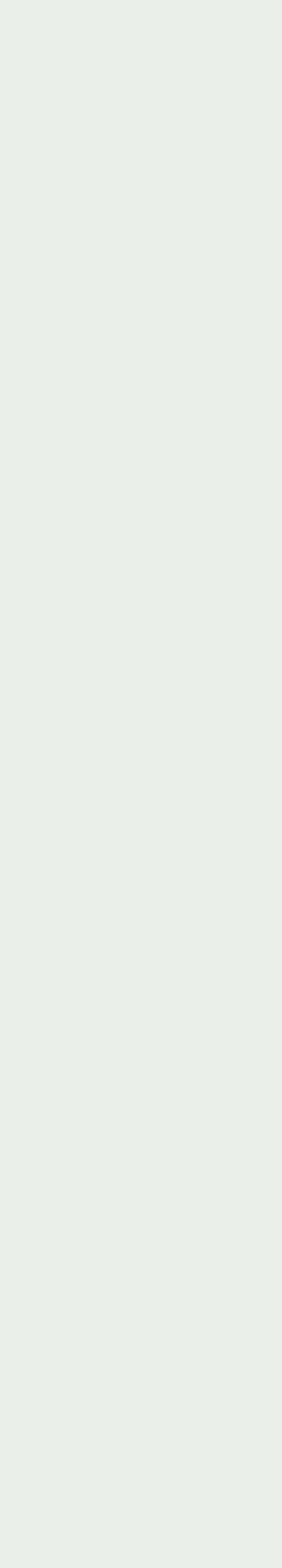


Обзор альбомов
|
||||||
Сальваторе Адамо - общественный деятель
|
Сальваторе Адамо в интернете
|
|||||
...И многое другое...
|
Новости
|
Ссылки
|
О сайте, его авторах и друзьях
|
Поди узнай, почему это смена счёта в десятках лет с двойки на тройку произвела на меня впечатление свалившейся на мой хребет поленицы дров.
"Двадцать лет не длятся вечно…" - так в песенке поется? А идут они так долго, что привыкаешь к ним, к этим годам триумфа дерзости и нахальства. Однако, приходит время смены счета годам, и что бы там ни говорили, как бы не бахвалились, но склоняется всё ж таки голова перед той самой юностью, что уходит павлином, в последний раз распустившим свой хвост, и уносит с собой, навсегда, феерическое волшебство своих красок. Удивительно, но наступившее позже сорокалетие принять оказалось легче, и я даже освободился от той самой поленицы дров…
Всё вокруг в то 2-е ноября 1986 казалось каким-то сморщенным, съёжившимся. В комнату мою и в меня самого просочилась поблекшими солнечными лучами осень. Начала с моего отражения в зеркале, затем принялась и за слетевшую через открытое окно с плачущих деревьев листву, устилавшую пол до самой постели.
По правде сказать, помят я был из-за того, что подружке моей не хватило деликатности быть в такой важный для меня момент рядом со мной. Знала она преотлично, что родился я в ту самую ночь, когда все святые удаляются, оставляя авансцену мертвым, могилки которых близкие их ранним утром украшают цветами, а взамен уважаемые усопшие одаривают послушных малышей сицилийского происхождения подарками.
Милое предание, бережно передаваемый из поколения в поколение красивый ритуал, пусть немного и смешная, но всё же память по усопшим.
Конечно же, надеялся и я, что кто-то из пращуров одарит и меня, приведя ко мне мою возлюбленную. Дабы не заставить до утра лежать на половичке возле входной двери, прождал я её всю ночь, не смыкая глаз… и напрасно - вся жизнь моя пошла насмарку, в довершение тому брюки оказались мятыми и не грелся утюг.
Вот и пошел я по зову не устоявшейся привычки через парк, который терпеть не могу! В сорочке цвета морской воды с накрахмаленным воротником, под костюмом-тройкой в серую полоску, задыхался я тем утром как никогда. Наметившаяся полнота несколько раздвигала прутья грудной клетки, но не настолько, чтобы из неё можно было ускользнуть. Весь я потускнел, едва осмеливался дышать. В Галереях, большом местном магазине, где я отвечал за отдел "тонкого белья", никому и ничего не было известно, конечно же, о моей годовщине.
Но я, все ж таки, был шефом отдела. Да, меня обзывали Полифемом, сравнивая с неусыпным оком: из профессиональной надобности положено держать его мне всегда открытым. И ещё потому, что тот был самым известным из циклопов, и коллеги мои, продавцы и кассиры, слышать могли только о нём. Если бы они называли меня Аргес или Стеропес, я порадовался бы их эрудиции, но оставим это, так будет лучше. Сальваторе, некий, как и я, продавец сицилийского происхождения из Асиреаля, что между Мессиной и Катаньей, часто их поминал. Он-то знал, что вдоль всего берега родного острова моего почти в каждом курортном местечке торчит в море скала, которую циклоп, согласно Гомеру, в гневе бросал в голову лишившего его единственного глаза Одиссея. Даже самому невежественному жителю Сицилии известна притягательная сила имени Полифема для туристов. Уверен, что кроме этого ничего не ведал из нашей обильной мифологии даже педант Сальваторе.
Ну да, я отвечал за продажу женского белья, что ж в том такого? Повода для иронии не вижу. У меня острый и неусыпный глаз, за что мне и платили. У клиенток с пустым кошельком, уверяю вас, свои уловки по дармовому обновлению исподнего, только со мной фокусы их не проходили. Именно верному своему нюху обязан я и встрече со звездой жизни моей. Но об этом расскажу я вам как-нибудь позже. Не сегодня.
Хоть бы одной из девиц нашего отдела взять да и улыбнуться мне в намек на годовщину! Так, нет же, ничуть не бывало. Одни заняты укладкой - по типу материала, размеру и расцветке - чулочных поясов, лифчиков, комбинаций, трусиков и по моделям - мини, миди, макси. Другие ждут, пока клиентки в кабинках с недоумением пытаются втиснуть свои округлости в 85В перед тем, как смириться с необходимостью в 9 °C. От шелка к нейлону, от полиамида к хлопку, от вискозы к эластану, так и дурачились продавщицы мои, ни малейшего внимания не обращая на мою персону. Это их работа, скажете вы. Ну, да, конечно, само собой разумеется.
На стеллажах, прямо посредине торгового зала, высилась гора трусов. По внешнему виду выпущены они были еще в довоенную эпоху и пришло время их выбросить, но я пустил их в распродажу под вывеской - Шарм минувшей эпохи. В преддверии зимы были здесь, конечно же, и на подкладке из мольтона, и из нераспускающегося трикотажа, и упрочненные эластином - на любой вкус, любого размера…
Время было раннее, торговые залы пустовали. Радуясь перспективе освобождения от залежалого товара и ткнув пальцем в нагромождение вышедшего из моды белья, я обратился в никуда: "Вот закончим с этой грудой и займемся свежачком!" Лучше бы я эту шутку, черт бы её побрал, не выговорил. Не видел я, что как раз в то самое время, в занятой почему-то без моего ведома примерочной кабинке некая дама, скажем при телесах, терзала бедный лифчик размера 110D, напоминавший по виду небольшой гамачок. Кабинки отгораживались полотняными занавесками, тирада моя ускользнуть от неё не могла, жест же мой, указующий на истинный предмет восторга, остался дамой незамеченным. Прикрыв грудь шторой, она высунула наружу растерянную физиономию:
- Груда? Любезность ваша мне адресована?
Я застыл, парализованный размахом грядущей катастрофы. Дама ни в жизнь не поверила бы, что усмешка моя целилась не в неё. Вместо того, чтобы увязнуть в объяснениях - искренние, они лишь усугубили бы её досаду - я оставался безмолвным. Она же принялась поносить и оскорблять меня, обзывая тайным поклонником эротики. Ей, видите ли, было невдомёк, какого черта в отделе женского белья торчал какой-то там мужчина, обещала поговорить об этом со своим кузеном, оказавшимся ни кем иным, а директором этих самых Галерей. Мсьё Дюпла потребовал, чтобы я принес мадам, его кузине, свои извинения. Не чувствуя за собой ни малейшей вины, я не стал подыскивать подобающих слов, которые ровным счетом ничего бы не изменили. И потом, мне казалось, что извинения должны были быть вынесены в мой адрес - я и так унижен согласием своим, при моей-то ученой степени, на дерьмовую эту работёнку, где, к тому же, беспричинно обвинялся в недостатке воспитания. Пускай, ступенька мсьё директора на иерархической лестнице располагалась и выше моей, но я себя с ним, хотя бы по благородству, оценивал ровней. Он потребовал от меня следовать за ним, я же просил предоставить мне перед тем, чтобы собраться с мыслями, чуточку времени.
Унижение и учинённая выволочка казались мне незаслуженными и несносными. Основным поводом молчанию моему являлась несокрушимая воля к сопротивлению скверным манерам… и ничего более! Я схватил по швам трещавший от бредовых моих идей дипломат и с достоинством, насвистывая и неспешно лавируя между отделами, принялся прохаживаться по проходам торгового центра. Давненько я не осмеливался извлечь на свет божий звезды, цветочную амбру и залитые полдневным солнцем пляжи. И стало страшно вдруг, что море окажется не в состоянии затмить собою те деликатные вещицы отдела, что лучше всего продаются лишь потому, что они из Парижа. И поди ж ты узнай, отчего любая тряпка из "блистательного" города обладает столь загадочной притягательностью для женщин. Вот и производят их с радостью, эти неизменно "восхитительные, очаровательные, волшебные, бесподобные" выдумки и причуды из Парижа в каком-нибудь Рубэксе или на Тайване. Отдел же в течение двух лет, мною ему в жертву принесённых, впечатляющие результаты по их продажам выдаёт.
Я вдохнул полной грудью и заявил себе самому, что отныне это не моё. Мне требовался моральный отпуск. Директор ждал меня у себя, в то время как я стоял перед тамбуром, ведущим на свободу. Со словами прощания повернулся я в последний раз в сторону неблагодарной публики, готовой через несколько минут заполнить все ходы и выходы и, спустя мгновение, очутился на улице, как если бы вышел за пачкой сигарет. Только я не курю, а вот в Галереях меня больше никто не увидит!
Сил здесь, однако, потрачено моих ох, как немало. Невинным, целительным шалостям за незримо проносящиеся восемь часов работы предавался я не более пары минут и то лишь в воображении. А в начале все было иначе, о работе, наоборот, думал я лишь в редкие моменты надобности. Я старался быть прозрачным и занимался лишь тем, что создавал видимость своего присутствия там, где меня не было. В Италии на многих фирмах всегда есть свободный стул, на спинке которого висит, напоказ, пиджак. Можно подумать, что его хозяин отошел справить нужду, на самом деле ничуть не бывало, хозяина на месте нет весь день, с самого утра. Ловко? То-то же. Вот и гуляет пиджак иллюзорного хозяина из кабинета в кабинет, и всякий служащий пользуется подобным мошенничеством по-своему.
В начале карьеры я вроде как присутствовал на месте, но на стуле находилась лишь моя телесная оболочка. Уразумев, что коллеги на удочку не ловятся, я сменил тактику и превратился в надсмотрщика, в истую шавку. С моей стороны все было серьезно, без полумер. Однако им и это не понравилось.
Тем хуже для них, им это ещё предстоит понять. Не ведают, чего теряют.
И тем хуже для неё, изменницы этакой. То целых два месяца не отставала от меня, а тут не явилась на мое тридцатилетие. Завтра о ней и не вспомню, пусть катится!
Чуть погодя, проделав по улице несколько шагов, я уже состряпал себе и своё ближайшее будущее. Займусь-ка искусством, запишусь на вечерние курсы, стану музейным завсегдатаем, упьюсь красотой и до краев наполню глаза невиданными ранее формами и красками. Вместо неё. Она больше не существует! И никаких "но"! За кого она себя принимает? Задавака!
Из свободы своей я решил выжать все по максимуму и навестил родителей, которых очень уж давно не видел…
Мать, как обычно, кофе угощает. Отец ударяется в воспоминания и я, в который уж раз, растроганно выслушиваю их.
"В посёлке Зелёный Крест, как и на всех окрестных шахтах, жизнь наша шла своим чередом. Что только не мы делали, а уголь нас с утра до вечера доставал. Ни на минуту не давала нам спуску угольная эта пыль - не смотря на ежедневную уборку, в кровать набивалась, покрывала небо, листья на деревьях, траву в полях, облака, дома, шахтеров, жен их, детей, любовниц, пищу, воду, да и мозги тоже. "Молотые с чернотой" - говорили про нас, и так оно и было. У меня черная пыль на зубах хрустела, вы ею дышали, ели её - мать твоя, сестра твоя и ты. Жизнь наша была по-настоящему черна, дощатые перегородки бараков, крыши гофрированного железа, всё было покрыто толстым слоем угольной пыли, так что даже в редкие минуты отдыха разговор снова крутился вокруг угля.
И все же в своем, увы, карточном, замке мы были счастливы… с приближением зимы дрожали, конечно, в нём от холода и мысли, как бы северный ветер не сорвал крышу, под которой частенько вспоминали мы нашу прекрасную, бедную Сицилию… Ты, поди, того и не помнишь, мой мальчик!
- Да, нет же, отец, всё я помню… Прошу, прости меня, ма… только почему же у ног-то моих вы лежите и отчего это имена ваши на камне выгравированы?
И, не получив ответа, ухожу… с кладбища.
После провожу пару часов в городском парке Эн-Сент-Мартин, облокотившись на перила, покоящиеся на балясинах из цельных деревянных стволиков, переброшенного через искусственный пруд бетонного мостика, прочищая мысли свои от черноты. Пышные ивы оплакивают меня, рискуя вызвать во всей округе наводнение. Спасибо вам, мои "плачущие сестры". Приободренный их трогательным сочувствием, с грехом пополам пробую зачерпнуть горсть надежды из той благодушной эпохи, где я, склонив голову к рулю маленького велосипеда, мчусь навстречу своему блистательному будущему. И вот, вновь оседлал я ту самую Фландрию детства моего и все "вернулось на круги своя", и еду я по дороге в школу. Еду вдоль канала, через шлюз, обгоняю ломовую лошадь, тащившую груженную горой угля шаланду и, спустя мгновение, исчезаю в туманной пелерине той самой Фландрии. Я давлю на педали так, словно от того зависит моё существование, вся едва начавшаяся моя жизнь. Я преследую свою мечту, которую так и не смог с себя смыть, столь сильно въелась она в кожу мою. Потому разношу её на себе повсюду - на черную доску шестого, "продвинутого" С, на свой гербарий, на квадрат гипотенузы Бермудского треугольника, на разбитых Карлом при Пуатье сарацинов, на прямые и косвенные дополнения, на звонок на перерыв и на щеки Клементины, которые отзывались на все это краской одобрения. А на обратном пути, почти в сумерках, маленький мой велосипед продолжает свой полет, грациозно лавируя между кораллами облаков с золотистыми нимбами. Но тут, откуда ни возьмись душераздирающее воспоминание - зеваки облепили труп утопленника, некоторые под маской смерти разглядели то, что не видели на живом лице: "Марокканец!" Вынужденный опустить ноги на землю, я не в состоянии противиться желанию посмотреть на первого в моей жизни "мертвого взрослого" и протискиваюсь меж двух ротозеев, которые назидательно советуют мне идти мимо, спектакль, дескать, не детский. Не смотря на оливково-зеленый цвет его лица и черноту губ, я тоже его узнаю, то был "чужак". Прогуливающимися их можно было увидеть лишь в ярмарочные дни, мы расступались перед ними, потому что "от них нужно было держаться подальше".
Да, в ту пору так оно и было, а теперь мне стыдно, что и я позволял расползаться зловонной той идее вместо того, чтобы ей противиться. Меня оберегали в мои двенадцать лет и пытались воспитать во мне уважение к "нормальности", к слепому отказу от различий. Сын иммигранта, с трусливым душевным томлением уверял окружающих придурков я в том, что моя "итальянскость" находится на пути к соглашательству и интеграции. Придурки были всегда и племя их, к сожалению, не стерильно. Напротив, размножаются эти скоты с невероятной скоростью! "Марокканец!" - разносит эхо. "Ай, не так это уж и страшно", - думают многие, хором…
В то самое 2-е ноября 1986-го время, бывшее некогда моим и которое катал я когда-то на багажнике своего велосипеда, перескочило на ходу на Кавасаки 900. И не стало канала, вместо него автострада… Нет больше утопленника, что хорошо, да полно иных неудачников, как и тех, кому на все это начхать. Ну, что ты будешь делать, даже хорошие воспоминания выруливают на серое и черное, лучше уж вовсе ни о чем не думать.
Я перебрался через Эн, чтобы вновь оказаться в центре городка. Пошел по улице Кальвэр, что на задворках храма Святого Мартина, в котором двадцатью годами ранее доводилось мне участвовать в богослужениях певчим детского хора. Я прошел вдоль стены длиной метров с пятьдесят, разделенной по средине металлическими воротами и остановился возле витрины похоронного бюро Легэ. Поддавшись сиюминутному настроению, я остановился, чтобы рассмотреть четверку сверкающих, величественных гробов с золочеными ручками, в стиле рококо, и барельеф сострадающего Христа, тоже из дерева. Один из гробов, ослепительной белизны, показался подходящим даже мне, ходячему трупу, коим стал я. К счастью та моя часть, что пока еще оставалась живой, заметила приклеенный к катафалку листок. Там было сказано про срочное предложение стажировки в проведении похоронных церемоний, а иначе говоря, места подмастерья могильщика с последующей перспективой постоянного найма. Листок был явно не первой свежести, похоже кандидаты в борьбе за место свалку не устраивали.
Продолжая находиться в полукоматозном состоянии, представил я себе, слово в слово, уведомление об увольнении в связи с допущенными мною серьезными промахами… на бланке Галерей и за подписью мсьё Дюпла, которое я вскоре должен буду получить: "… ваше возмутительное поведение сего дня на рабочем месте поставило под удар репутацию всего магазина…" и т. д., и т. п. Хорошо, хорошо, все верно!
Следуя зову инстинкта, я переступил порог тяжелой и серой, как моя жизнь, входной двери и тут же увидел Фернана Легэ. Впервые.
То ли мина моя ему приглянулась, то ли что ещё, но в глазах его, от встречи с первым и единственным кандидатом на вакантное место, явно засквозила радость. Я тотчас почувствовал к будущему патрону симпатию, заполнил контракт по найму, который и протянул ему с застенчивой, но вместе с тем и полной признательности улыбкой за неожиданно быстро проглянувший лучик солнца. Видели бы вы его, когда он узнал про день моего рождения. Он буквально ликовал: "Нет, так не бывает… Жулиано Кросе, это же означает "крест", если я не ошибаюсь, так сказать, животворящее начало, изъявил желание стать служкой в похоронном бюро! Не иначе, как само Провидение прислало тебя. Вот что, парень, если ты в своем уме, значит ты не промах и за это нужно выпить! Откуда ты такой, чем же ты занимался всё это время, почему столько заставлял ждать себя, спаситель ты мой?"
Я пересказал ему сценку, закончившуюся моим увольнением, и он расхохотался до слёз. Потом вызвал секретаршу, бывшую к тому же его дочерью, радостно представил нас друг другу и откупорил бутылку шипучки, стоявшую у него под рукой на всякий несчастный случай, будь то катастрофа или прочий катаклизм, коих у него насчитывалось не меньше десятка. "Добро пожаловать и с днём рождения тебя, Жюльен! Ничего, что я называю тебя Жюльен? Послушай, я займусь тобой, парень, вылеплю тебя, станешь свободным, как я… Мы с тобой теперь вместе до конца дней… Да пребудет всё, с чем связан ты на земле, и на небесах…", ну, и так далее.
Кто сказал, что дело утратило предмет страсти?
Этот человек дожидался меня многие и многие годы. Не было у него сына, была лишь дочь, Франсуаз, с которой я только что познакомился. Он вспомнил ту счастливую пору, в которую ценили труд похоронных дел мастеров и в которой, я уже вам о том как-то сказывал, грыз он большой палец ноги поступившего к нему клиента дабы убедиться, что тот ушёл из жизни окончательно и бесповоротно. "Знал бы ты, крышки скольких гробов исцарапаны изнутри", - с улыбкой доверительной нашептывал он мне.
Милый и назидательный подход к философии профессии… бр-рр-р! я содрогнулся от ужаса.
- И смерть случается забавной, - пошутил он, протянув мне руку, которую я вежливо пожал, прежде чем попросить у него отгул.
Вышел я от Легэ без лишних вопросов, как если бы только что подписанный мною контракт стал всего лишь последним, само собой разумеющимся "па" из тридцатилетнего кружения в вальсе моих сомнений и проволочек, а та "корявая, с косой", всегда желавшая иметь у себя на службе персону мою, устала пинать меня и передала все полномочия на меня не кому-то иному, а именно Легэ.
Вновь представил себя малышом, единственным сыном, не год и не два владевшим правом на отрешенность, грусть и недоумение, стоящим рядом с какой-то оранжевой коробкой, размером что-нибудь восемьдесят на тридцать, с неподвижным ребенком, серого цвета, неестественно молчавшего внутри… с навсегда закрытыми глазами. Я регулярно видел у мамы вздутый живот и ласково говорил: "Мама, ты слишком много ешь", смутно догадываясь при том об истинной причине её тучности. И она всякий раз находила в себе силы весело рассмеяться. Я смеялся вместе с ней, сидя у неё на коленях и теребя её волосы. Через несколько месяцев раздавались крики - то днем, то посреди ночи, не взирая ни на какие правила… Тетка моя, Тереза, убегала в поселок и спустя каких-нибудь полчаса всякий раз возвращалась сопровождаемая неизменной матроной, которую все почему-то называли акушеркой. Никто и никогда не осмелился просить её о дипломе. Вход в родительскую комнату мне был настрого заказан, я присоединялся к толпившимся возле двери в ожидании результатов акушерского вмешательства немногочисленным соседям, догадываясь, что вскоре ещё одно дитя предстоит предать земле. Было их пять, пять девочек… прежде чем одна моя сестренка, Сарина, выжила…
Должен ли я был воспринимать себя самого, как чудом избежавшего злой участи? Я был первенцем, перворожденным. Родители мои отметили появление мое со всей, подобающей Сицилии, заносчивостью. Как требовала того традиция, повитуха для первого моего омовения приготовила ароматический отвар, в который подбросила рису, дабы окрепли мои ножки. Затем, коль скоро я был мальчиком, смывки с помпой были выплеснуты на улицу, в случае с девочкой их вылили бы в отхожее место. Милых дам прошу не сердиться на меня, я тут ни при чем и уверяю вас, что ныне традиции эти утеряны.
И так, всегда непредсказуемо, но вместе с тем и неумолимо, позволив подзабыть о своей последней победе, смерть вновь представала передо мною, как всегда в роли триумфаторши, чаще всего одеваясь в младенческие одежды, иногда же представляясь водой, а поскольку клеилась ко мне она постоянно, я начал привыкать к её отвратительному присутствию.
Эта Курносая в прямую насмеялась над всей нашей семьей ещё раз. Как-то, воскресным вечером, возвращались мы с ярмарки. Мама шла по проезжей части и толкала перед собой коляску со спящей в ней сестренкой, мы с отцом шли рядом по тротуару. Неожиданно раздался визг тормозов и, прежде чем мы поняли, что же произошло, в четырех или пяти метрах от нас в фасад дома, где спустя несколько мгновений оказались бы и мы, врезалась какая-то машина, что смела бы, как кегли огромным шаром, и нас. Мама упала без чувств. Обняв меня и поцеловав ручонку сестры, папа поднял её и присел, с ней на коленях, на ступеньки магазина игрушек, возле которого все и произошло. Я придерживал коляску и вожделенно разглядывал все эти Динки Тойс. Столько раз слышал я о них от своих одноклассников, а теперь вот они, рядом, залитые иллюминацией, но в недосягаемости. По правде говоря, во мне вибрировал сочный аккорд мечты обладания, но я довольствовался и её виртуальностью, она нисколько не стесняла меня - ведь, даже не читая Мишо, знал я про необъятность "внутренних ощущений", которые всегда остаются при тебе, со всем своим скопищем прекрасного.
Вот собственно и всё, о чем думал я, выходя от Фернана Легэ, только что подписавшего со мной "контракт" ассистента похоронных дел мастера. И вынужден был я признать, что все прошлое моё было тому поводом и, судя по всему, было все у меня, чтобы преуспеть.
Не помню как, но добрался я куда следовало: Ситэ, спальная часть города, вотчина каштанов, блок F, апартаменты 21. Я снимал угол на четвертом этаже одного из тех муниципальных, сдававшихся в наем домов, что были построены на месте и вместо бараков, во время войны дававших пристанище пленным немцам, а чуть погодя - итальянским и польским иммигрантам, работавшим на шахтах. Немцы - те расплачивались за свою неотступную, омраченную плодящим смерть безумием мечту об экспансии, рабочие же так и не поняли причин обрушившейся на них кары.
Что бы там ни было, ведь в нищете, как в нищете, но все они, лишенные глубинных, родных корней, а таковой была и наша семья, жили как в фаланстере - общим, одним на всех, достоянием была надежда на лучшие времена, наступившие далеко не у каждого.
Теперь, пролетарии имеют прочный кров над головой. Только вот, создававшие его архитекторы вряд ли могут претендовать на звание "радетелей неимущих", что явствует из вида сгрудившихся блочных коробок, выкрашенных к тому же в один и тот же грязно-оливковый, дополняющий убожество их эстетики цвет. А в противовес грубости внешних стен, разделяющие апартаменты внутренние перегородки сооружены видимо из папиросной бумаги - даже думать здесь нужно с предосторожностью, когда спит сосед, ну, а если вам придётся маковку почесать, тут уж возмущается всё сообщество.
В новом этом загоне вновь обманутый бедняк мстил, он повсюду рисовал, на фасадах, в подъездах, на стенах лифтов. Порой, "сытость его всем этим по горло" приобретала вполне осязаемую форму дряблой, смрадной кучи прямо на ступенях общей лестницы. В конце концов веревочка свилась, порочный круг замкнулся - никто, кроме тех, кому делать это доводилось вынужденно, не осмеливался совать свой нос в Ситэ. Кто послабее, подыскал себе место на стороне, дабы не увязнуть в какой-либо скверной истории, или же явно не божественного толка комедии, в которой Господь заруливает в кювет, а смерть кружит в ослепительно ярком танце, перед тем как увлечь за собой на край неба и пригвоздить там к позорному столбу, под невыносимо палящим солнцем. И всякого тут всяк боится. И исцарапаны здесь стены, на которых один тайком изобразил надежду, другой взбунтовался и выплеснул всю свою ненависть в изобилие умственного уродства - не признающего ни стыда, ни совести граффити. Кончилось тем, что о Ситэ стали говорить, как о гетто.
Временами, банды местной голи перекатной истошными воплями и необъяснимым насилием в форме, скорее отчаянных, нежели разрушительных набегов, ворошили безропотное оцепенение себе подобных. И до такой степени, что даже телевиденье посвятило нам целый репортаж. Установили как-то в Ситэ желавшую "правды и объективности" камеру, оказавшуюся на деле любительницей клубнички. Вот тут-то и увидели, и услышали вживую шершавый диалект нищеты и заброшенности, беспробудного пьянства и простительной неучености затерявшихся и опустившихся мужчин и женщин, говоривших, к тому же, на разных диалектах. Не осмеливаясь на прямое осуждение властей, и те и другие жаловались на соседей по лестничной клетке, обвиняя друг друга во всякой ерунде, в мелких грешках, выкладывая на показ перед всеми ничтожность собственной жизни. Продюсер, по-видимому, на случай возможных последствий, все заранее согласовал. Только кто ж это позволил бы себе роскошь отказаться от роли, пусть даже и крохотной во времени, но звезды! малого экрана, да ещё с показом в "прайм тайм"? Кто бы смог отречься от этого проклятого реванша над пустотой ничтожной жизни своей? Бельгия в тот вечер отменно посмеялась, ну, а телевидение, падкое на "жареное", великолепный сорвало куш.
Почему же продолжаю жить я среди всей этой безысходности, спросите вы меня. Сам не знаю. Виной тому, несомненно, память о родителях, которым и мощеный-то подъезд к дому был успехом на пути социального развитии. Впрочем, они были бы много довольней, живи я в районе попрестижнее. Но, тут и своеобразный вызов, и сострадание, и потаенная надежда какого-нибудь чинушу, заинтересовавшегося загнивающими здесь излишками отчетности увидеть. Что ни говори, а в золоте и я не купался. Жалование шефа отдела в Галереях позволяло мне быть и поамбициозней, только не задумывался я как-то об этом. Честное слово, о переселении начал я всерьез размышлять лишь после визита ко мне возлюбленной моей. Но она, по причине известной лишь ей одной, настояла на том, чтобы остались мы в этом жилище, и непристойный городской квартал обрел блистательное её присутствие. Я же перестал смущаться окружения, приспособившись к его отзывчивости.
Как бы там ни было, но я оставался почти по-ребячески покладистым… как в той истории с моим псом Бабелютом, помеси овчарки, пуделя и, наверное, далматинца.
Лет семь мне тогда было, мы всё ещё жили в деревянном бараке. Как-то раз, после окончания уроков, напрасно дожидался я его возле школы, куда приятель мой по детским забавам моим имел обычай приходить на встречу. С наихудшими предчувствиями обыскал я весь наш городок, но Бабелют так и не нашелся. Домой вернулся я весь в слезах, с ужасом представляя себе самому свалившиеся на его голову несчастья. Несколько дней ждал я его, храня надежду на то, что он попросту не может выпутаться из какой-либо неприятности, затянувшейся, но отнюдь не фатальной. Постепенно, пусть и весьма болезненно смирился я с неизбежностью утраты. И вот тремя неделями позже, отец мой приводит мне собаку. На первый взгляд почти Бабелют - такой же задира, те же два абсолютно разных уха, одно обвислое, второе торчащее вверх, рыжие и черные пятна на белой, слегка вьющейся шерсти. "Ну, вот и он! - горделиво заявил папа, довольный сам собой. - Конец разлуке! Это же он, узнаешь его? Он-то тебя узнал, смотри как лижется, а хвостом как машет!
- Да, папа, конечно, это он. Спасибо, па!"
Сальваторе Адамо. Воспоминание о счастье - тоже счастье...
Salvatore Adamo. "Le souvenir du bonheur est encore du bonheur..."
(перевод Колягина)
СТРАНИЦА 2

Copyright © 2012
Все текстовые, графические и мультимедиа материалы, размещённые на сайте, принадлежат их авторам и демонстрируются исключительно в ознакомительных целях. Оригинальные материалы являются собственностью сайта, любое их использование (или модификация) за пределами сайта - только с разрешения администрации.
К СПИСКАМ ПЕСЕН ПО АЛФАВИТУ
























