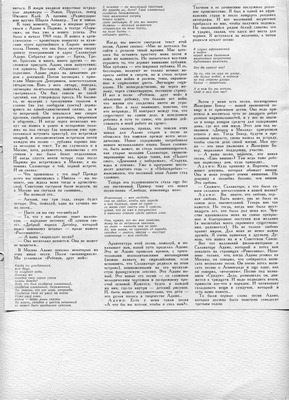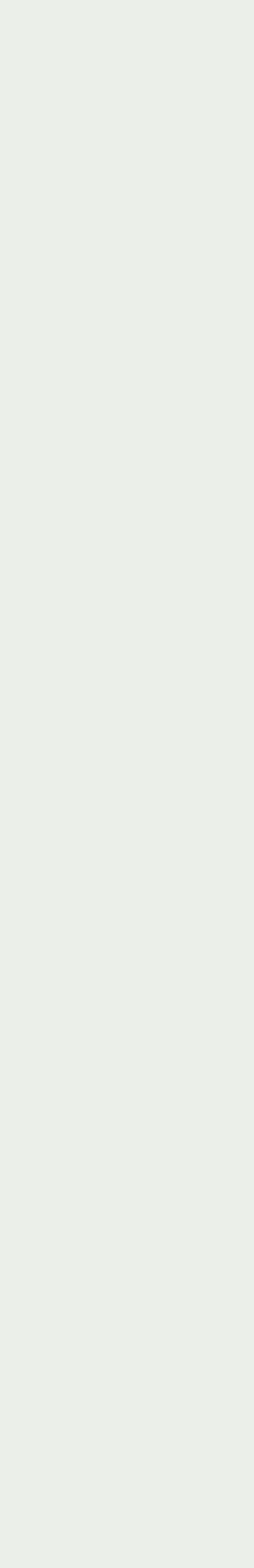

Обзор альбомов
|
||||||
Сальваторе Адамо - общественный деятель
|
Сальваторе Адамо в интернете
|
|||||
...И многое другое...
|
Новости
|
Ссылки
|
О сайте, его авторах и друзьях
|

Copyright © 2012
Все текстовые, графические и мультимедиа материалы, размещённые на сайте, принадлежат их авторам и демонстрируются исключительно в ознакомительных целях. Оригинальные материалы являются собственностью сайта, любое их использование (или модификация) за пределами сайта - только с разрешения администрации.
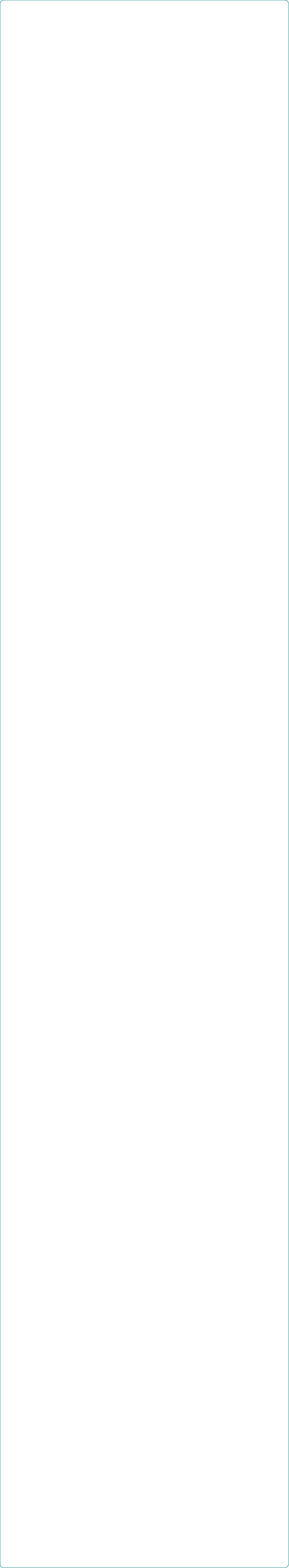
Гальперин Артем. Дело движется к тридцати
(Журнал "Ровесник", 1972 год)
Мы прощались с ним на аэродроме в Шереметьеве, и, конечно, он дал предотъездное (или предотлетное) интервью, и оно, как все такие интервью, было скомкано, и лишь в машине, когда я возвращался в Москву, впечатления, а точнее воспоминания, выстроились в более или менее стройный ряд, составив своего рода «мини-фильм» об Адамо.
Этот фильм начался, по-видимому, в конце 1965 года, когда кто-то из знакомых, побывавших в Париже, сказал: «Как, вы никогда не слышали Адамо? Не может быть!» Это стереотипное восклицание нуждалось в подкреплении, и вскоре к нам на радио пришли записи песен Адамо и две короткие пленки с репортажами о концертах. В одной из пленок корреспондент, попавший на концерт Адамо где-то на Лазурном берегу, закинул свой микрофон в публику:
Нравится ли? Да. Голос нравится.
Музыка хороша, и хороши слова.
Мил и симпатичен, слушать можно без конца.
Это не «йе-йе», это другое...
Пошли газетные отклики на дебют Адамо в «Олимпии» в сентябре 1965 года. Критик Рене Бурдье отметил, что «юношество, как видно, продемонстрировало достаточно хороший вкус, чтобы с приходом Адамо забыть весь жалкий репертуар идолов». Коллега Бурдье по перу Андре Леже отстукивал депешу в редакцию: «Когда я увидел, что он неподвижен на сцене, то извинил его: эстрада была крошечная, все пространство было занято роялем, и двигаться было просто негде». Но когда Леже прошел за кулисы и поговорил с Адамо, тот объяснил ему, что дело не в квадратных метрах и что на большой сцене в «Олимпии» он тоже не намерен расхаживать.
Стоп. Давайте, любопытства ради, промотаем наш мини-фильм вперед, в сегодняшний день. Когда Адамо после описанного дал концерты у нас, его манера пения и поведения на эстраде оказалась такой же, что и тогда, в шестьдесят пятом. И многих наших зрителей, единожды вкусивших, скажем, от динамики Беко, от огненной певческой декламации Бреля, от точеной пластики Жюльетт Греко, относительная неподвижность Сальваторе Адамо чуть удивила, хотя певец и позаботился, чтобы его ансамбль не только аккомпанировал ему, но и «подтанцовывал».
Но, быть может, главное в театре Адамо не пластическая и не пантомимическая одежда его музыки или стиха, а сама песня — без декорации, без грима? Песня, состоящая из настоящей мелодии и настоящей поэзии? Сам Адамо все эти сомнения поклонников и критиков решает просто.
Адамо: Проблема музыки и текста состоит в том, чтобы сочинить простую музыку и простой текст. Таким образом, чтобы они могли тронуть всех без исключения. Либо взволновать, либо развеселить, либо ввести в какое-то иное состояние духа. Текст, сплавленный с музыкой, где тот или иной человек как частичка публики может отыскать себя, свою радость, страдание или любовь.
Люблю, когда ветер пугливый
в твоих волосах играет,
когда он тебя в балерину
сказочную превращает.
Люблю, когда ты, возвращенная,
отбросив мои сомненья,
как маленькая девчонка,
садишься мне на колени.
Люблю твои руки — в мгновенье
они меня могут утешить,
твой шепот в минуту сомнения
журчит ручейком надежды... '
Здесь и далее перевод стихов П. Вегина.
Вот поэтому я во время исполнения стараюсь обращаться к какому-нибудь одному зрителю. Он для меня вся публика. И вся публика — это одно лицо. Стало быть, каждый из двух тысяч моих слушателей (возьмем это условное число) вправе предположить, что я пою только для него. Впрочем, так было всегда, даже на старых маленьких скромных балах, когда я пробивал себе путь — то были годы безвестности, из которых выплываешь благодаря случаю...
Таким случаем был... цирк. В областной город Монс в Бельгии, где жила семья Адамо — надобно пояснить, что Адамо были итальянскими эмигрантами, приехавшими из Сицилии, — итак, в Монс приехал цирк. Французский цирк. Событие для всех! Цирковые актеры послушали маленькую местную «звезду» Сальваторе и посоветовали ему поехать в Париж, попытать счастья в радиоконкурсе. Один из них назывался «Радиоудар».
Адамо: «Радиоудар» — по-французски «Крошэ радиофоник». «Крошэ» — термин из бокса. В студии сидела публика, и ежели что-либо в певце ее не устраивало, то, во-первых, подымался свист, а во-вторых, били в большой гонг — «бамммм», и исполнитель поневоле должен был остановиться. В жюри входили известные эстрадные дирижеры — Элиан, Пурсель, певец Филипп Клей. А премию «Радиоудара» мне вручил Шарль Азнавур... Так и пошло.
К тому моменту, когда я впервые встретился с Адамо в Париже, в театре «Олимпия», он был уже в зените успеха. Это было в начале 1969 года. Я вошел в артистическую — крошечную комнатку за кулисами этого крупнейшего в Европе мюзик-холла. Помню, что она была оклеена сверху донизу телеграммами в адрес Сальваторе Адамо. Собратья по сцене — Брель, Трене, Брассанс и много, много других — поспешили прислать Адамо свои напутствия; так принято. Все-таки «Олимпия» — дело серьезное. Адамо сидел на диванчике рядом с девушкой. Потом заговорил с приятелем Мишелем Дентришем, замечательным гитаристом. Взял у него гитару, поиграл, заговорил по-итальянски, замолчал. Я присматривался. Он был совсем не такой хрупкий, как утверждала пресса. Не былинка, не мальчик с треснувшим голосом и словно (на ухо сообщали газеты) держащимся на одной-единственной связке, да и то непрочной. Он показался мне скорее крепким, свободным в разговоре, уверенным в общении... И когда через несколько минут он вышел к рампе и осторожно положил на пол гитару (за занавесом уже приготовился вступить оркестр), его встретили овацией, и аплодисментами встречали почти каждую его песню — публика хорошо знала мелодию и текст. То же случилось и в Москве, хотя, разумеется, знакомство с его стихом у нас было более отдаленным.
И когда спустя почти четыре года после Парижа мы встретились в Москве, я напомнил Сальваторе о той, первой встрече. И он сказал:
- Что произошло с тех пор? Прежде всего, мы поженились с Николь — вы по мните, она ждала меня тогда в артистической. Советские гастроли были недолги, но в Москве мы скучали по сынишке...
- Вы назвали его...
- Антони, ему три года, скоро будет четыре. Это, пожалуй, одна из лучших мо их песен...
- Поете ли вы ему что-нибудь?
- То, что у нас обычно поют маленьким, — народные песенки: «В лунном свете», «Добрый король Дагобер, который надел наизнанку штаны» — вроде вашего «Рассеянного»...
- А ваша «взрослая» песня?
- Она несколько меняется. Она не может не меняться...
В Москве Адамо показал некоторые из этих иных песен. Песен «меняющихся». Мы услышали «Ребенок, друг мой»:
Когда ты улыбаешься,
мой друг,
то голубеет небо.
Почему же
сегодня твои серые глаза
полны дождя?
Ведь это был солдатик оловянный,
солдатик оловянный, безымянный.
Ах, знаешь, это все игра, неправда.
Солдатик твой не умер на войне.
Уйми свой плач,
война — всего лишь сказка.
Не плачь, сегодня и цветок невинный
не может быть раздавлен сапогом.
А человек — он мыслящий тростник.
Не правда ли, дитя? Твой оловянный
солдатик безымянный,
твой маленький хитрец
пошел искать
свою любимую. И это мы понять
должны — веселый человечек
отправился на поле битвы,
на поле битвы —
собирать цветы...
Когда мы вместе смотрели текст этой песни, Адамо сказал: «Мне не хотелось бы сойти с рельсов тихой иронии. Мне хотелось бы оставить простоту моих песен и даже их наивность. Но попытаться все-таки отразить то, что держит внимание публики. Моя публика — это широкая публика. И ее, бесспорно, волнуют не только вечные вопросы любви и смерти, но и столь острые темы, как война и расизм, темы, окрашенные в социальные цвета. Звучащие социально. Не непосредственно, но через музыку, через стихотворную, песенную строку. И вот в песне «Ребенок, друг мой» я объясняю ребенку, что больше нет войн, что жизни его солдатика ничто не угрожает. Все в зале понимают, конечно, что это неправда... И контраст между тем, что существует на самом деле, и неведением ребенка и есть то самое, что должно действовать в моей работе на сцене».
Надо сказать, правда, что поиски этих новых для Адамо сторон в песне не обошлись без поисков прежде всего мелодических. Новое содержание потребовало нового музыкального языка. Более сложного, быть может, не столь запоминающегося, как старые мелодии Сальваторе, гипнотизировавшие зал, вроде таких, как «Падает снег», «Девчонки с побережья», «Старуха, идол и птички». Уже в программе шестьдесят девятого года — в «Небоскребах» — выяснилось, что песенный язык Адамо стал сложнее.
Теперь эта усложненность стала еще более явственной. Пример тому его новая песня-поэма «Свобода, изменница моя».
Изменница — моя свобода,
она не любит, чтобы при народе
о ней болтали, нрав ее суров —
со мною счет свести она б сумела,
узнав, что ее имя в ритурнелях
в кавычки ставлю среди прочих слов.
Она, чужая, все же мне знакома,
живу по ее ветреным законам,
но знаю — никогда она не врет.
Ее, как шрам, не спрятать от народа,
сегодня — гнется, завтра — восстает
изменница — моя свобода.
Архитектура этой песни, пожалуй, и показывает нам, какой путь проделал Адамо. Это не Адамо прошлых времен, с трогательными неаполитанскими интонациями (можно назвать их сицилийскими, если вспомнить, что Сальваторе родился на этом острове), помноженными на его мускулистую французскую лексику. Это Адамо новый. Это новые его песни — со сложным мелодическим чертежом и по-прежнему простой основой. Кажется, будто в каждой из них, где-то внутри — детский рисунок. И, быть может, неудивительно, что дети — это целая полоса в творчестве Адамо...
Адамо: Есть у меня такая песня «А что бы вы хотели, чтобы я спел вам?».
Толчком к ее сочинению послужило реальное происшествие. Я был в одной из африканских стран и после концерта раздавал автографы. И вот маленький негритенок пробрался ко мне, чтобы получить подпись. Но оказавшийся рядом белый схватил его и ударил, сказав, что здесь нет места для черных. Я вступился за мальчика, а потом родился куплет песни:
В глуши африканской
я видел:
перед моим балконом
маленького негритенка
дубинками колотили.
Бог да хранит нас!
За то, что он шел по улице,
где белые ходят,
а черным по той стороне улицы
белые — запретили.
А о чем бы вы хотели,
чтоб я пел для вас?
Затем у меня есть песня, посвященная Жозефине Бекер — нашей знаменитой певице и ее приемным детям. Она ведь приютила и воспитала чуть не двадцать ребят разных национальностей, и у нее не хватило в конце концов средств для содержания дома, где все они жили. Этот дом под названием «Дворец в Миланд» пригрозили отнять у нее. Тогда Бекер, будучи в преклонном возрасте, снова вышла на эстраду, чтобы спасти дело своей жизни. Моя песня — это знак уважения к Жозефине Бекер, моральная поддержка, участие.
— А ваша песня, впрочем, это новая песня, «Ешь вишни»? Там ведь тоже ребе нок нарисовал дом, куда приходит...
Адамо: Куда прихожу я. Впрочем, там живет девушка, которая обожает вишни. Она и меня угощает этими вишнями. Но девушку я полюбил больше, чем вишни. Это любовь.
— Скажите, Сальваторе, а что было самым сильным впечатлением в вашей жизни?
Адамо: Вы знаете, это любовь, первая любовь. Быть может, она не была на самом деле значительной. Теперь мне так кажется. Но тогда, когда мне было шестнадцать лет, это было для меня все. Чувство вдохновляло меня на самые прекрасные и благородные поступки или желания (в масштабах моего скромного существования, разумеется). Но не только любовь правит миром. Для меня не менее важна дружба. Я очень привязан к друзьям. Думаю, что нашел их и в Советском Союзе.
Вот тот маленький фильм-интервью о Сальваторе Адамо, который я хотел вам показать на страницах «Ровесника». Напомню только, что, когда, Адамо уезжал из Москвы, он говорил, что собирается написать несколько песен. Он очень хотел написать песню о Ленинграде и еще одну, как он говорил, «итоговую». Песню под названием «Сундук». Дело, размышлял он, движется к тридцати. И надо подводить итоги, привести кое-что в порядок. И потихоньку складывать вещи в сундучок, который и есть наша память...
То были первые слова песни Адамо, которая должна быть помечена семьдесят третьим годом.
К СПИСКАМ ПЕСЕН ПО АЛФАВИТУ